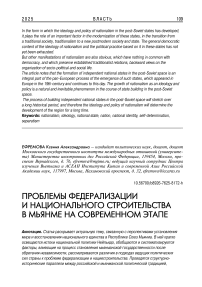Проблемы федерализации и национального строительства в Мьянме на современном этапе
Автор: Ефремова К.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Межнациональный мир: Россия и зарубежный опыт
Статья в выпуске: S1 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает актуальную тему, связанную с перспективами установления мира и восстановления национального единства в Республике Союз Мьянма. В ней кратко освещаются истоки национальной политики Нейпьидо, обобщаются и систематизируются факторы, влияющие на процесс становления мьянманской государственности после обретения независимости, рассматриваются различия в подходах ведущих политических сил страны к проблеме федерализации и нациестроительства. Проводятся структурно- исторические параллели между российской и мьянманской политической традицией, подчёркивается важность российского опыта для постепенной трансформации политической системы Мьянмы в сторону её большей открытости и демократичности.
Мьянма, бирма, Россия, политическая система, национальная политика, федерализация
Короткий адрес: https://sciup.org/170209128
IDR: 170209128 | DOI: 10.56700/b8926-7625-8172-h
Текст научной статьи Проблемы федерализации и национального строительства в Мьянме на современном этапе
П роцессы национального строительства в Республике Союз Мьянма — многонациональной, поликонфессиональной стране, получившей независимость от Великобритании в 1948 году — до сих пор далеки от завершения. Хотя исторический опыт совместного сосуществования титульной нации (бирманцев) и представителей этнических меньшинств, коих в Мьянме проживает более 135, насчитывает уже около тысячи лет, эти отношения не всегда были гладкими. Бирманцев нередко (хотя и не всегда справедливо) обвиняли в имперском гегемонизме и великодержавном шовинизме, а они, в свою очередь, подозревали своих оппонентов в сепаратизме и обслуживании интересов внерегиональных держав.
Проблема взаимоотношений бирманского большинства и представителей малых этносов уходит корнями в средние века — период формирования мьянманской государственности. Зачастую этот процесс осуществлялся далеко не мирными средствами. Местные националисты до сих пор вспоминают о том, как бирманские войска покоряли монов, шанов, ракхайнцев, тайцев и другие народы, включая их в состав своей империи.
После того как англичане окончательно завоевали Мьянму в 1885 г., они приблизили к себе представителей этнических меньшинств, принявших христианство, — чинов, качинов, каренов. Действуя по принципу «разделяй и властвуй», колонизаторы вооружили их и использовали эти отряды для подавления бирманского национально-освободительного движения. Когда же уход завоевателей из Мьянмы стал неизбежен, карены потребовали создания своего собственного государства под протекторатом Великобритании [Васильев 2010, с. 156]. Требования каренов были отклонены, однако идея о самоопределении национальных меньшинств вошла в первую Конституцию Бирманского Союза, предусматривавшую возможность сецессии отдельных регионов страны через десять лет после провозглашения независимости [Constitution… 1947, с. 37]. То есть, по сути, британцы заложили мину замедленного действия в само основание будущей мьянманской государственности.
В начале февраля 1947 г. в шанском местечке Панлон прошла конференция, в которой приняли участие бирманцы, шаны, чины, качины, кая (последние — в качестве наблюдателей), а также представители английской колониальной администрации. По её итогам было подписано соглашение между членами Исполнительного совета при губернаторе Бирмы (этническими бирманцами), собвами (феодальными правителями шанских княжеств), а также вождями чинских и качинских племён об объединении усилий в целях скорейшего обретения независимости. Это соглашение, названное «Панлонским» [Panglong Agreement 1947], является ключевым документом, позволяющим понять всю дальнейшую политику союзного центра по отношению к национальным окраинам Мьянмы.
Национальную политику независимого мьянманского государства можно условно разделить на несколько этапов:
-
1. Невмешательство в дела этнических меньшинств в обмен на их лояльность (1948–1962).
-
2. Принудительная ассимиляция в рамках унитарного государства (1962–1988).
-
3. Неформальные договорённости о прекращении огня в обмен на сохранение территориальной целостности страны (1989–2011).
-
4. Мирные инициативы правительства по возвращении этнических меньшинств в общенациональный политический процесс (2011– 2021).
-
5. Чрезвычайное положение и консолидация усилий по сохранению территориальной целостности Мьянмы (2021 — по н.в.).
Политика невмешательства проводилась союзным правительством сразу после обретения независимости, когда отряды каренских сепаратистов, вооружённые англичанами, подняли восстание и окружили столицу (в то время — город Рангун/Янгон). Поскольку «каренские винтовки» представляли собой хорошо подготовленных бойцов, шансов сохранить власть и удержать страну от распада у правительства, представлявшего бирманское большинство, практически не было. И тогда премьер-министр У Ну обратился за помощью к чинским и качинским племенам, подписавшим Панлонское соглашение. Они направили свои отряды на помощь вооружённым силам страны, которыми руководил генерал Не Вин, и благодаря его полководческому таланту и своевременным поставкам оружия из Индии карены были отброшены от столицы и разбиты [Васильев 2010, с. 263–264].
В обмен на военную помощь штатам Чин и Качин была предоставлена реальная автономия, прописанная в Панлонском соглашении 1947 года, что на практике означало, что союзное правительство не будет вмешиваться в их внутренние дела. Такое положение вещей вполне устраивало и местных вождей, и руководство страны [Kipgen 2011, с. 50–51]. Однако базовые положения Конституции 1947 года (а именно, Глава Х), основанные, в том числе, на требованиях шанов и каренов, предусматривали право каждого национального штата84[1] на выход из Союза после десяти лет с момента её вступления в силу [Constitution… 1947, с. 37]. Эта ситуация категорически не устраивала вооружённые силы страны, поскольку провоцировала рост сепаратизма и угрожала территориальной целостности Мьянмы. И когда в июне 1961 г. шанские князья потребовали введения в стране федеральной системы, при которой, собственно, Бирма стала бы
84[1] На этапе провозглашения Мьянмой независимости этих штатов было пять – Шан, Качин, Карен, Каренни (Кая) и Чин. Позднее к ним присоединились штаты Мон и Ракхайн.
всего лишь одним из национальных штатов, потеряв изначально присущий ей государствообразующий статус, армейское руководство восприняло это как сигнал к действию [Васильев 2010, с. 286].
2 марта 1962 г. в Янгоне произошёл военный переворот. К власти пришёл Революционный совет во главе с Верховным главнокомандующим вооружёнными силами Мьянмы, генералом Не Вином. Конституция 1947 г. была отменена, и ни о каком праве штатов на сецессию речи уже не шло. В стране было установлено прямое военное правление. При Не Вине началась политика принудительной ассимиляции национальных меньшинств, принадлежащих к списку 135 «коренных народностей», и вытеснения из страны тех, кому не посчастливилось в этот список попасть — китайцев, индийцев, бенгальцев-мусульман, потомков смешанных браков. По данным индийского Министерства по делам соотечественников за рубежом, после военного переворота 1962 г. Мьянму покинуло 300 тыс. индийцев, главным образом тех, чья собственность была национализирована и экспроприирована [Chaturvedi 2015, с. 25–26].
В 1974 г. была принята Конституция Социалистической Республики Бирманский Союз [Constitution… 1974], зафиксировавшая унитарный характер мьянманского государства. Семь штатов, где проживали преимущественно национальные меньшинства, и семь собственно бирманских административных округов уравнивались в правовом статусе, причём от автономии штатов (не говоря уже об их праве на сецессию) решено было полностью отказаться. В стране началась политика бирманизации, выражавшаяся в повсеместном внедрении бирманского языка и проведении мер, направленных на сплочение Союза. В 1982 г. был принят закон о гражданстве [Burma Citizenship Law 1982], согласно которому представители мусульманского населения штата Ракхайн, идентифицировавшие себя как народность рохинджа, теряли право на гражданство, если не могли доказать факт проживания своей семьи в Мьянме до начала британского завоевания. Тогда же власти начали принудительно выселять незарегистрированных рохинджей обратно в Бангладеш, откуда их предки были завезены англичанами.
После падения социалистического режима и прихода к власти Государственного совета по восстановлению законности и правопорядка (в 1997 г. реорганизован и переименован в Государственный совет мира и развития) правительство было вынуждено признать тот факт, что окраинные районы страны полностью контролируются местными ополчениями и надо начать с ними политический диалог. Заключенные с этническими вооружёнными организациями (ЭВО) неформальные соглашения предусматривали установление режима прекращения огня в обмен на взаимное признание: союзное правительство признавало исключительное право ЭВО на контроль над соответствующей территорией в качестве «отрядов пограничной обороны», а те, в свою очередь, признавали свою территорию неотъемлемой частью Союза Мьянма [Meehan 2011, с. 386–387].
Конституция 2008 года подтвердила унитарный характер мьянманского государства, а проведённые на её основе выборы привели к власти первое за тридцать лет гражданское правительство во главе с отставным генералом Тейн Сейном. Результатом его пятилетней работы стало подписание в 2015 г. Общенационального соглашения о прекращении огня [National…, 2015], к которому присоединились больше половины ЭВО, участвовавших в переговорах.
Сменившее администрацию Тейн Сейна правительство Аун Сан Су Чжи (дочери генерала Аун Сана, поставившего свою подпись под Пан-лонским соглашением 1947 г.) продолжило курс на общенациональное примирение в рамках так называемого «Панлонского соглашения XXI века». Были проведены три всесоюзные конференции с участием представителей ЭВО, однако существенного результата они не принесли [Ganesan_2018, с. 390].
Ныне действующее правительство старшего генерала Мин Аун Хлайна подошло к проблеме сепаратизма с другой стороны: необходимо вести переговоры о путях национального строительства не с лидерами вооружённой оппозиции, привыкшими говорить языком ультиматумов, а с политическими партиями, готовыми к конструктивному диалогу и представляющими разные регионы страны85[2]. Суть нынешних переговоров сводится к выработке новой федеративной модели для Мьянмы, с учётом пожеланий этнических меньшинств и опыта зарубежных стран — в первую очередь, Российской Федерации.
Почему именно Российской Федерации? Не только потому, что наши страны связывают тесные дружественные отношения, но и потому, что в истории государственного строительства России и Мьянмы имеются определённые структурные параллели:
-
• обе страны имеют богатую тысячелетнюю историю существования в качестве поликультурных многонациональных империй;
-
• обе страны потерпели тяжёлые социальные потрясения на рубеже XIX–XX вв., оказавшись на грани распада;
-
• обе страны сумели преодолеть иностранную интервенцию и восстановить свой суверенитет над большей частью принадлежавших им территорий;
-
• обе страны имели опыт построения социализма, завершившийся переходом к многопартийной демократии;
-
• обе страны в последние годы стали полигоном для иностранного вмешательства, приводящего к кровавым междуусобным конфликтам.
Мьянма, как и Россия, является многонациональным государством, где уважается разнообразие народов и культур, их исторического опыта
85[2] 26 political parties support SAC’s offer to resolve political issues through political means. Myanmar Ministry of Information. 30.09.2024. Доступ: mm/moi:eng/news/15633 (проверено 31.01.2025).
и взаимной поддержки в период тяжёлых испытаний, затрагивающих всех без исключения граждан страны. Она не понаслышке знает о таких проблемах, как экономические и политические санкции, делегитимация и «демонизация» власти, подтасовка выборов и попытки осуществления «цветных революций», а также национальный сепаратизм и спонсируемый извне терроризм.
За последний год политическая ситуация в стране резко ухудшилась. После начала «Операции 1027» — внезапного согласованного наступления трёх военизированных группировок: Армии национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA), Национально-освободительной армии Та-анг (TNLA) и Армии Аракана (AA), известных как «Альянс тройственного братства» — мьянманская армия вынужденно отступает, теряя свои позиции на территориях, где действуют повстанцы, изначально пользовавшиеся поддержкой Китая.
Одной из причин этого наступления стало обязательство лидеров повстанцев уничтожить мошеннические телекоммуникационные центры вдоль приграничных районов Китая и Мьянмы, находившиеся в зоне их ответственности, и освободить граждан Китая, которых фактически держали там в рабстве и принуждали совершать мошеннические телефонные звонки [IPS Inside Email… 2023, с. 9]. Но лидеры Альянса тройственного братства зашли слишком далеко и начали полномасштабную военную кампанию против союзного правительства Мьянмы, что не было согласовано с Китаем. Поэтому Пекину пришлось оказать давление на эти группировки, чтобы остановить их дальнейшее продвижение вглубь страны.
Одним из результатов этой неожиданно успешной кампании Альянса тройственного братства стало решение о создании «совместной мьянманско-китайской охранной компании» (а если говорить без эвфемизмов, то китайской ЧВК), которая будет защищать китайские предприятия от нападений повстанцев на территории Мьянмы. Компания будет охранять ресурсы и инфраструктурные рабочие площадки, а оружие и коммуникационное оборудование будут контролироваться совместно Пекином и Нейпьидо [Graham 2024]. Как стало известно, эта идея была предложена китайской стороной, и китайские сотрудники службы безопасности уже начали прибывать в Мьянму.
Это, конечно, ещё не прямая китайская интервенция, но уже принципиально иная степень вовлечённости Китая во внутримьянманский конфликт, чем раньше. Причём если раньше Пекин пытался оказывать давление на несговорчивое правительство в Нейпьидо через ЭВО, то сейчас он будет оказывать это давление напрямую, через свою ЧВК. При этом Китаю, по большому счёту, всё равно, какие силы придут к власти в Мьянме на следующих выборах, лишь бы они продолжили проводить прокитайский курс, подразумевающий бесперебойное функционирование трубопроводов и других китайских инфраструктурных и промышленных объектов. Китаю нужна внутриполитическая стабильность в Мьянме, и чтобы её обеспечить, он всё глубже втягивается во внутримьянманские дела, помимо своего желания становясь всё более зависимым и уязвимым от проводимой её руководством политики.
Какие же выводы и заключения можно сделать из вышеизложенного?
-
1. Проблема национального строительства в современной Мьянме до сих пор не решена. Со времени обретения независимости (1948 г.) и по сегодняшний день в стране идёт вялотекущая война между союзными властями (в большинстве своём представленными титульной нацией — бирманцами) и этническими вооружёнными организациями (ЭВО), отстаивающими права нацменьшинств. ЭВО борются за то, чтобы самим контролировать «свои» территории, не допуская туда администраторов из союзного центра. Фактически их устроила бы конфедеративная модель государственного устройства при максимально широких полномочиях региональных властей.
-
2. Мьянманские вооружённые силы (Тамадо), напротив, настаивают на унитарном характере государства, соглашаясь на предоставление нацменьшинствам только культурной автономии (как, например, это имеет место в Китае). Согласно Конституции 2008 года, семь, собственно, бирманских административных районов и семь национальных районов, где проживают нацменьшинства, обладают равными правами. С точки зрения этнических меньшинств, это не совсем справедливо. Их лидеры хотели бы видеть бирманские территории объединёнными в один «штат Бама», который вошёл бы в мьянманскую (кон)федерацию наряду со штатами Чин, Качин, Шан, Карен, Кая, Мон и Ракхайн, обладая абсолютно теми же правами, что и национальные территории нацменьшинств. Руководство Тамадо категорически против такого развития событий.
-
3. Согласно Конституции 2008 года (написанной под контролем военных), Тамадо принадлежит «руководящая роль в национальном политическом процессе», что подразумевает наделение военных особыми полномочиями по управлению государством и наведению порядка в стране в случае угрозы её суверенитету, территориальной целостности и национальному единству. Нынешнее правительство страны не только предпринимает жёсткие меры по силовому подавлению вооружённых выступлений непримиримой оппозиции, но и активно изучает опыт дружественных Мьянме федеративных государств (в первую очередь России и Индии), чтобы понять, что из их механизма государственного управления может быть полезно и реализуемо на практике.
-
4. В ноябре этого года Государственный административный совет Мьянмы планирует провести выборы в союзный парламент, который, в случае успешной реализации этих планов, соберётся впервые за пять лет. Очевидно, что от состава парламента будет зависеть и дальнейшая судьба проектов федерализации, предлагаемых Тамадо и их политическими оппонентами, а также место вооружённых сил в политической системе страны. Таким образом, Тамадо окажется перед новым нелёгким выбором в условиях неопределённости. Вместе с тем позитивную роль может сыграть стремление нынешнего мьянманского руководства перенимать
российский и индийский опыт в области государственного строительства и национальной политики.
В целом, подводя итоги, можно сказать, что в сложившейся непростой ситуации России остаётся только всемерно содействовать дружественному мьянманскому режиму в проведении парламентских выборов и надеяться на то, что к власти придёт лояльное нам гражданское правительство, чья легитимность не будет ставиться под сомнение ни внутри страны, ни за её пределами (особенно на региональном уровне).