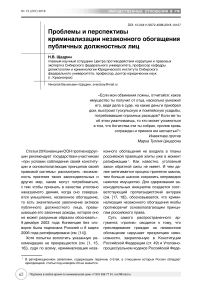Проблемы и перспективы криминализации незаконного обогащения публичных должностных лиц
Автор: Щедрин Николай Васильевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 12 (207), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы реализации в российской правовой системе рекомендаций статьи 20 Конвенции ООН о введении уголовной ответственности публичных должностных лиц за незаконное обогащение. Автор анализирует аргументы «за» и «против», обосновывает необходимость криминализации этого явления и предлагает проект редакции статьи 2891 «Незаконное обогащение» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Незаконное обогащение, неосновательное обогащение, принципы криминализации, публичное должностное лицо, уголовная ответственность публичных должностных лиц
Короткий адрес: https://sciup.org/170172945
IDR: 170172945 | DOI: 10.24411/2072-4098-2018-10127
Текст научной статьи Проблемы и перспективы криминализации незаконного обогащения публичных должностных лиц
«Если мои обвинения ложны, отчитайся: какое имущество ты получил от отца, насколько умножил его, ведя дела в суде, на какие деньги приобрел дом, выстроил тускульскую и помпейскую усадьбы, потребовавшие огромных расходов? Если же ты об этом умалчиваешь, то кто может усомниться в том, что богатства эти ты собрал, пролив кровь сограждан и принеся им несчастья?»
Инвектива против Марка Туллия Цицерона
Статья 20 Конвенции ООН против коррупции рекомендует государствам-участникам «при условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы» рассмотреть «возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». 9 декабря 2003 года Конвенция без оговорок была подписана Россией и 8 марта 2006 года ратифицирована (см. [14]).
Хотя попытки воплотить указанную рекомендацию не прекращаются (см. [1, 15, 16]), судя по всему, криминализация неза- конного обогащения не входила в планы российской правящей элиты уже в момент ратификации 1. Как известно, уголовный закон обратной силы не имеет. И чем далее затягивается процесс принятия закона, тем больше шансов сохранить неправедно нажитое имущество. Для сдерживания законодательных инициатив создается соответствующий пропагандистский антураж (см. [17, 18]), обосновывается, что криминализация незаконного обогащения якобы противоречит основополагающим принципам российского права.
Суть самого распространенного аргумента «против» сводится к тому, что преследование граждан за незаконное обогащение нарушает презумпцию невиновности, закрепленную в Конституции Российской Федерации (ст. 49) и Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Феде- рации (ст. 14), а предлагаемая Конвенцией и законопроектами редакция якобы возлагает обязанность по доказыванию законности приобретения имущества на обвиняемого.
Другой основной контраргумент обоснован тем, что криминализация незаконного обогащения якобы противоречит принципу вины (статья 5 Уголовного кодекса Российской Федерации; далее – УК РФ), ведь в статье 20 Конвенции рекомендуется признавать уголовно наказуемым незаконное обогащение, «когда оно совершается умышленно». А поскольку доказать умысел в преступном приращении имущества трудно, мы якобы «скатываемся» к объективному вменению. В случае если факты преступного происхождения (хищения, взятки и т. д.) все-таки будут доказаны, то в существующем уголовном законодательстве уже имеется достаточно средств для привлечения виновных к ответственности (см. [22, 23]).
На мой взгляд, указанные контраргументы достаточно легко опровергаются. Ни в Конвенции, ни в одном из предлагаемых законопроектов доказывание не возлагается на виновного. Умысел в незаконном обогащении должен доказываться так же, как и в случае привлечения за любое другое преступление. В статье 20 Конвенции и в предлагаемых к введению в УК РФ новеллах речь идет не о преступном , а о незаконном обогащении. Если в первом случае имеет значение уголовная противоправность приращения активов, то во втором – обогащение в результате нарушения норм других отраслей законодательства: служебного, финансового, гражданского. Однако противники имплементации намеренно или по юридической безграмотности ставят между этими категориями знак равенства, всячески затушевывая очевидную для юриста разницу между правонарушениями и преступлениями.
В связи с этим следует обратить внимание на ряд положений российского законодательства, которые уже сейчас трактуют некоторые виды обогащения как противоречащие закону.
Основания возникновения и прекращения права собственности, а также наиболее общие границы его реализации определяются разделом II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Правила передачи имущества, исполнения имущественных обязательств и их защиты регулируются и другими разделами ГК РФ. Право собственности возникает и прекращается на основании закона либо договора. Для приобретения права собственности на некоторые виды имущества к тому же требуется государственная регистрация. Любое незаконное обладание имуществом может влечь за собой, с одной стороны, защиту прав законного владельца, с другой стороны, неблагоприятные для незаконного владельца последствия, предусмотренные в различных отраслях права. В гражданском праве для этого используется широкий набор различных средств, среди которых следует выделить виндикационные иски (истребовании вещи из чужого незаконного владения) и кондикционные иски (требование о возврате неосновательно полученного).
В принципе обогащение – это не только нормальное, но и полезное для благосостояния индивида, общества и государства явление. Стремление к обогащению, как бы мы к этому не относились, является одной из главных «пружин» развития современной цивилизации. Для реализации субъективного права на обогащение в законодательстве любого государства закреплены правила легального перемещения материальных благ от одного субъекта гражданского оборота к другому. Россия в этом плане, как видим, – не исключение.
Но еще в римском праве появились конструкции, в основе которых лежит идея недопустимости неосновательного обогащения , при котором приобретение (прирост) и сбережение (экономия) какого-либо материального блага являются неправомер-

ными, поскольку это противоречит устоям общества, основам нравственности и морали (см. [4, с. 5–6; 6, с. 9]). Неосновательное обогащение нарушает принципы социальной справедливости и при широком распространении этого явления создает угрозу хаоса в имущественных отношениях и в конечном счете грозит социальными потрясениями и катаклизмами.
Упречность неосновательного обогащения прослеживается в законодательстве практически всех зарубежных государств вне зависимости от того, к какой правовой семье оно принадлежит: романской, германской или англо-американской (см. [4, с. 71–119]). В ГК РФ имеется глава 60 «Обязательства вследствие неосновательного обогащения». Статьей 1102 ГК РФ предписывается, что «лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)».
Иными словами, все перемены в имущественном положении лица должны быть основаны на законе и опосредованы договором, предписанием, сделкой и иным юридическим фактом, наличие которого необходимо для возникновения правоотношений по владению, пользованию или распоряжению имуществом.
Перемещение благ с нарушением правил, закрепленных в законодательстве, которое привело к приращению имущества одного лица за счет другого, влечет за собой ряд обязательств со стороны «обогатившегося». Иски, вытекающие из неосновательного обогащения (кондикционные иски) используются на практике для защиты любого безосновательного перемещения имущественного блага от потерпевшего к приобретателю (см. судебную практику [26]).
Развитие института неосновательного обогащения применительно к современным российским реалиям интенсивно исследуется в работах Ю.Г. Бозиевой, В.В. Былкова, В.В. Витрянского, А.В. Климовича, Т.И. Илларионовой, А.П. Ипатова, А.Л. Маковского, Д.В. Новака, Ю.К. Толстого, Т.Г. Соломиной и других цивилистов. Теория, законодательство и практика исходят из того, что неосновательное обогащение – «это обретение или сохранение имущества, осуществленное за счет другого субъекта без оснований, установленных законодательством посредством договора/сделки, или опираясь на другие правовые нормы» (см. судебную практику [26]). Как считает Д.В. Новак, «факт неосновательного обогащения может быть вызван самыми разными обстоятельствами – событиями, действиями приобретателя, потерпевшего или третьих лиц, причем действия эти могут быть как правомерными, так и неправомерными, а в последнем случае, как виновными, так и невиновными. Неосновательным обогащением может стать всякое имущество – деньги и вообще любые вещи, как индивидуально-определенные, так и определенные родовыми признаками, а также различные имущественные права. Неосновательное обогащение может выражаться как в приобретении права на имущество, так и в одном лишь фактическом завладении им» (см. [8]).
Несмотря на то, что по многим аспектам неосновательного обогащения в гражданском праве нет консенсуса, широкое использование этого древнего института в современных правовых системах подтверждает и закрепляет в правовых отношениях принципы неприемлемости неосновательного обогащения в современном обществе, а также предоставляет правовые средства (рычаги) для восстановления справедливого имущественного баланса.
На мой «нецивилистический» взгляд, неосновательное обогащение можно именовать незаконным 2 и возникающие вслед- ствие этого обязательства – только один из инструментов в обширном и разнообразном наборе гражданско-правовых средств, обеспечивающих соблюдение правил имущественного оборота: от признания сделок недействительными до принудительного изъятия имущества.
Обращение к неосновательному обогащению и другим институтам гражданского права в контексте настоящей статьи преследует несколько целей.
Во-первых, хотелось еще раз обратить внимание юристов и неюристов на то, что даже неосновательное обогащение считалось и считается явлением предосудительным, которое расценивается как негативный юридический факт, порождающий обязательства обогатившегося перед потерпевшим. Так почему же общество должно более снисходительно относиться к обогащению, которое стало результатом нарушения других правил имущественного оборота, установленных другими нормами гражданского права?
Во-вторых, это помогает обозначить и оценить возможности гражданско-правовой отрасли в борьбе с незаконным обогащением.
И, наконец, в-третьих, если уголовноправовая норма об ответственности за незаконное обогащение будет принята, то она, естественно, будет бланкетной, то есть опирающейся на нормы других отраслей права, прежде всего гражданского.
Исторически сложилось так, что термин «неосновательное обогащение» используется в науке гражданского права применительно к достаточно узкой группе обязательств. Тем не менее этот гражданско-правовой институт – специфический сегмент незаконного обогащения. Помимо него в гражданском праве есть еще ряд институтов, маркирующих перемещение имущества как незаконное и предусматривающих различные варианты его истребования.
Арсенал борьбы с незаконным перемещением имущества не исчерпывается только гражданско-правовыми средствами. В силу специализации отраслей права в гражданско-правовой отрасли задаются основные правила имущественного оборота, в моей трактовке – правила безопасности. Некоторые из правил имущественной безопасности закрепляются в диспозициях других отраслей права: в диспозициях административного законодательства – правила повышенной безопасности, а в диспозициях статей Особенной части Уголовного права – правила особой безопасности (подробнее см. [10, с. 27]). Нарушение правил безопасности, закрепленных в указанных отраслях, влечет за собой соответствующие санкции. Уголовные правонарушения (преступления) против собственности (гл. 21 УК РФ) по своей конструкции представляют собой правила особой имущественной безопасности (тайное хищение (ст. 158 УК РФ), открытое хищение (ст. 161 УК РФ), нарушение которых влечет применение уголовно-правовых санкций. Правила особой имущественной безопасности предусмотрены и в других главах УК РФ, например легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ) и т. д.
Из сказанного следует, что различные формы незаконного обогащения порицаемы в нормах как частного, так и публичного права. Для реагирования средствами частноправовых отраслей имеет значение наличие вреда конкретному лицу, а для подключения арсенала публично-правовых отраслей должна быть угроза или реальное причинение существенного вреда неопределенному кругу лиц, то есть необходима общественная опасность. Основаниями

для дисциплинарной и административной деликтолизации служит повышенная общественная опасность деяния, а для криминализации – особая общественная опасность. Соответственно, гражданско-правовые средства нацелены на восстановление имущественных прав конкретных физических или юридических лиц и применяются по их инициативе, а в публичных отраслях (служебно-трудовое, финансовое, административное, уголовное) реагирование осуществляется в интересах неопределенного круга лиц и преимущественно по инициативе государства.
Специализация частных и публичных отраслей права – один из методологических приемов, облегчающих правоприменение, но это «разделение труда» никогда окончательно не завершится. В гражданское право и гражданский процесс «вмонтирован» учет публичных интересов, а в уголовном судопроизводстве учитываются и интересы конкретного потерпевшего (дела частного обвинения, гражданский иск в уголовном процессе и т. п.). Центробежная и центростремительная тенденции уравновешивают друг друга. И наряду со стремлением к специализации отраслей (дивергенции) периодически возникает необходимость в еще большей их конвергенции.
Для достижения кумулятивного эффекта в противодействии незаконному обогащению могут и должны быть задействованы средства, предусмотренные в различных отраслях законодательства. Незаконное обогащение является именно той сферой, где частные и публичные интересы «завязаны» в тугой узел. И «развязать» его только средствами, которые предоставляет гражданское законодательство, невозможно. Это особенно касается ситуаций, когда есть выгодоприобретатель, но не установлен потерпевший. Точнее, потерпевший, он же законный владелец имущества в подавляющем большинстве случаев имеется, (возможно, «коллективный»), но имя его неизвестно и по разным причинам его нельзя установить.
Проиллюстрирую сказанное типичной в следственной практике ситуацией. У подозреваемого в краже проводится обыск, в ходе которого обнаруживается имущество, явно не принадлежащее ни потерпевшему от кражи, ни подозреваемому. Однако поскольку владельцы этого имущества с заявлением о похищении не обращались, найти законного владельца имущества и признать его потерпевшим не представляется возможным. А такой коллективный потерпевший, как государство, не всегда замечает, как его вороватые «слуги» перекладывают средства из государственного кармана в собственный.
Очень часто потерпевший просто не желает быть потерпевшим, поскольку не заинтересован в возврате имущества только потому, что огласка перемещения его законного имущества грозит ему крупными неприятностями. Возможно, его запугали или он передал свое имущество в качестве взятки, или посредством передачи уклонился от налогов, сборов и иных законных обременений. Не так уж редки случаи, когда в результате многозвенной и незаконной перемены владельцев («вор у вора дубинку украл») отыскать законного собственника практически невозможно. Кого, например, можно считать собственниками «воровского общака»?
Тем не менее обогащение за счет неустановленных владельцев имущества тоже следует считать незаконным (неосновательным) по той простой причине, что оснований для приобретения правомочий собственника и возникновения иных вещных прав, предусмотренных в разделе II ГК РФ, не было и они надлежащим образом не закреплены в договоре или ином документе.
К сожалению, в теории гражданского права на этот счет гораздо меньше ясности, чем хотелось бы. Статья 238 ГК РФ, хотя и регламентирует прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать, но, судя по комментариям, она распространяется на вещи, изъятые из гражданского оборота и огра- ниченные в нем. А если это вещи, оборот которых не ограничен? Или недвижимость, приобретенная с грубейшим нарушением законных процедур, как это было в период приватизации 1990-х годов?
В незаконном (неосновательном) обогащении есть две взаимоувязанные грани:
-
1) необоснованное приращение имущества у выгодоприобретателя;
-
2) лишение возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом законного владельца.
Гражданско-правовые способы – это реакция не столько на первое, сколько на второе. Кондикционные иски пригодны для случаев, когда имеется конкретный потерпевший, считающий, что его имущественные права нарушены, и желающий отстоять их в суде. Да и поводом для уголовно-правового реагирования главным образом служит заявление законного владельца, лишившегося принадлежащих ему правомочий. Причем упор традиционно делается на преступный способ такого лишения (кража, грабеж, мошенничество и т. д.).
Тем не менее не без влияния «мировой моды» в последние десятилетия в России пробивается осознание того, что незаконное обогащение почти так же общественно опасно, как и преступное. Любопытно, что в первоначальной редакции статьи 174 УК РФ предусматривалась уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. «Указание на незаконность (а не на преступность) означает, что имущество … может быть приобретено не только, скажем в результате незаконной предпринимательской деятельности, уклонения от уплаты налогов либо хищения, но и иным незаконным путем, например, в результате неосновательного обогащения», – писал комментировавший состав этого преступления авторитетный специалист в области уголовного права П.С. Яни (см. [13, с. 114]).
Но по ряду причин эта «романтическая» линия уголовно-правовой борьбы с незакон- ным обогащением была прервана. После 2001 года состав был переформатирован, «раздвоился», и в настоящее время двух статьях УК РФ (174 и 174.1) уже предусмотрена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. Такая метаморфоза требует отдельного исследования. Полагаю, что в этом немалую роль сыграло опасение так называемой элиты лишиться значительной части богатств сомнительного происхождения, а вовсе не ратификация Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (см. [27, 28]), как принято считать. Конвенция, конечно, рекомендует странам-участникам минимум – борьбу с отмыванием преступных доходов, но вовсе не запрещает национальному законодателю преследовать в уголовном порядке лиц, отмывающих незаконные доходы.
Для эффективной борьбы с отмыванием незаконных доходов надо «лошадь поставить впереди телеги», то есть вначале решить проблему с криминализацией получения незаконных доходов, а потом уже использовать уголовно-правовые средства, препятствующие их отмыванию. Полагаю, что если человечество не желает и дальше истреблять себя в революциях и войнах, то такой шаг предстоит сделать. Незаконное обогащение государств, социальных групп, отдельных индивидов – серьезный фактор глобальной поляризации на нищих и сверхбогатых, неизбежно ведущий нас к новым социальным потрясениям. Уверен, что рано или поздно наше государство, да и мировое сообщество в целом придут к необходимости установить более эквивалентные отношения между вкладом каждого в общественное благосостояние и размером личного богатства. И современные цифровые технологии позволяют без особого труда отслеживать эту пропорциональность. Прозрачность финансовых операций и контроль за их перемещением – современный тренд. Он,

например, наглядно проявляется в борьбе с офшорами.
Но движение к деликтолизации и криминализации незаконного обогащения будет происходить постепенно, по мере формирования соответствующих предпосылок и создания необходимых ресурсов. В настоящее время сложились подходящие условия для реализации рекомендаций статьи 20 Конвенции ООН против коррупции – криминализации незаконного обогащения публичных должностных лиц. Необходимость этого шага стала особенно ощущаться в связи с принятием в 2008 году Федерального закона «О противодействии коррупции», а также пакета сопровождающих и развивающих положения закона нормативных правовых актов. Видеосюжеты задержания должностных лиц, уличенных в коррупционных деяниях, часто сопровождаются демонстрацией обнаруженных у них предметов роскоши. При этом богатейшие «залежи» отнюдь не природного происхождения «разумным образом» не могут объяснить не только сам подозреваемый, но и представители правоохранительных структур. Разве только феноменом реинкарнации – ведь стоимость приобретенного в период службы имущества порой настолько значительно превышает законные доходы подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, что для их приобретения даже при высокой заработной плате им надо было круглосуточно работать в течение нескольких жизней 3.
В последние десятилетия служебное законодательство дополнено специальными запретами и обязанностями, которые по своей природе и сути являются антикоррупционными правилами безопасности (подробнее см. [9, с. 52–71]). Источники доходов публичных должностных лиц строго регламентированы законодательством и должны быть прозрачны для контролирующих органов и в определенных случаях для населения. Лица, занимающие (замещающие) государственные и муниципальные должности, государственные и муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения не только о своих доходах, но и о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (см. [29, статьи 71–125; 30, статьи 12–151; 31, статьи 15–202]). Ряд должностных лиц обязаны декларировать еще и расходы, а в случае расхождения доходов и расходов объяснить эти расхождения (см. федеральные законы [31, 32]).
Нарушение правил, установленных законодательством, является правонарушением и влечет за собой санкции, предусмотренные служебным, гражданским и другими отраслями законодательства. Так, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 230-ФЗ) Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 этого закона, в порядке, установленном за- конодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 этого закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
Одновременно с этим 3 декабря 2012 года пункт 2 статьи 235 «Основания прекращения права собственности» ГК РФ был дополнен подпунктом 8 в следующей редакции: «обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы».
И вот, наконец, «поскрипывая», российская «правоохранительная машина» двинулась в заданном парламентом направлении. По сведениям Генеральной прокуратуры, в 2016 году удовлетворенных исков об изъятии в пользу государства незаконно нажитого имущества оказалось 15 из 29 – взыскано 12 объектов на сумму 34 миллиона рублей. Только за первое полугодие 2017 года выявлено 1,8 тысячи нарушений Закона № 230-ФЗ, к дисциплинарной ответственности привлечены 200 должностных лиц, а суды удовлетворили 13 исков на общую сумму в 229 миллионов рублей, взыскано четыре объекта недвижимости стоимостью 6,2 миллиона рублей (см. [7]).
Понятно, что с подобной трактовкой незаконного обогащения и принудительным изъятием неизвестно откуда «свалившегося» на чиновника имущества согласны далеко не все. В конституционности такого подхода сомневаются не только незаконно обогатившиеся, но и некоторые представи- тели судебной ветви власти.
Так, Стерлитамакский районный суд Республики Башкортостан, рассмотрев исковые требования исполняющего обязанности прокурора Республики Башкортостан о взыскании в доход Российской Федерации с гражданки Е.В. Колесник, являющейся муниципальной служащей, и ее супруга гражданина А.Ю. Колесника стоимости приобретенного в 2014 году и впоследствии проданного автомобиля в размере 2 800 000 рублей согласился с доводами истца об отсутствии сведений о приобретении этого имущества на законные доходы и решением от 25 ноября 2015 года указанные исковые требования удовлетворил.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан, на рассмотрении которой находилась аппелляционная жалоба, поданная ответчиками на решение суда первой инстанции, определением от 3 марта 2016 года приостановила производство и обратилась в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности подлежащих применению в этом деле положений подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Оставляя в стороне аргументацию, изложенную в мотивировочной части постановления, с которой заинтересованный читатель может ознакомиться самостоятельно, перейдем к резолютивной: Конституционный Суд Российской Федерации однозначно подтвердил конституционность оспариваемых положений федеральных законов (см. [34]).
Таким образом, сегодня в России имеются не только соответствующая законодательная база, но и практика признания незаконности обогащения должностных лиц, даже если источник их обогащения не установлен. Но достаточен ли для эффективной борьбы с незаконным обогащением потенциал гражданского и трудового права? Не

следует ли за незаконное обогащение чиновников в значительных размерах ввести уголовную ответственность?
Основания, критерии, факторы и принципы криминализации разработаны в трудах Г.А. Злобина, С.Г. Келиной, И.В. Лозинского, Н.А. Лопашенко, А.И. Коробеева, В.Н. Кудрявцева, В.И. Плоховой, Л.М. Про-зументова, П.А. Фефелова, В.Д. Филимонова, А.В. Шеслера и ряда других авторов (подробнее см. [2, с. 75–93]). Рассмотрим затронутую проблему в свете этих разработок.
Особая общественная опасность незаконного обогащения в значительных, крупных и особо крупных размерах, на мой взгляд, очевидна. Представители нынешней власти серьезно озабочены угрозой «цветных» («цветочных») революций. На борьбу с несистемной оппозицией, «пятыми колоннами», «иностранными агентами», «происками госдепа» и прочим «влиянием Запада» тратятся огромные ресурсы. При этом игнорируется очевидное – основными причинами любых революций являются внутренние противоречия, а наиболее весомым поводом для подобных потрясений служат вопиющее неравенство, крайнее недовольство собственной властью и невозможность ее сменяемости законным, конституционным путем.
В 2016 году доля национального дохода, приходящаяся на 10 процентов лиц с самыми высокими заработками (верхняя дециль по уровню доходов), составляла в Европе 37 процентов, в Китае – 41 процент, в США и Канаде – 46, в России – 47, в Африке южнее Сахары, Бразилии и Индии – около 55 процентов, на Ближнем Востоке – 61 процент (см. [35, с. 5]). А, как известно, неравновесные системы менее устойчивы, а соответственно, и менее безопасны. Если учесть, что в настоящее время за чертой бедности находится не менее 20 миллионов наших сограждан (см. [36]), то в России имущественное расслоение уже достигла критического уровня. И хотя показатели имущественного разрыва в нашей стране не самые худшие в мире, ситуацию усугубляет убежденность большинства россиян в том, что богатство – вовсе не результат «трудов праведных». И для этих убеждений есть веские основания. Основные причины растущего имущественного неравенства в России связаны не столько с производственными и предпринимательскими талантами, сколько с «масштабным перетеканием государственного имущества в частные руки» (см. [35, с. 13]).
Между незаконным обогащением и неучтенным богатством можно, по сути, поставить знак равенства. Неучтенное не облагается налогами и сборами. Это – фундамент для теневой экономики и теневой политики, это – «резервный фонд» для коррупции. И сколько бы мы не ставили в законодательстве барьеров для обеспечения честной конкуренции, победу будут обеспечивать «коробки из-под ксероксов», набитые денежными купюрами неустановленного (читай – незаконного) происхождения 4.
Из сказанного следует, что незаконное обогащение – это опасное во всех отношениях явление, но особенно опасным оно становится, когда таким образом прирастает имущество публичных должностных лиц, которые определяют и обеспечивают вектор развития страны на всех уровнях и во всех сферах. Такие действия не только нарушают отношения справедливого распределения материальных благ в обществе, но и подрывают установленный в обществе порядок и авторитет публичной службы. Этот фактор дестабилизирует общество гораздо больше, чем несанкционированный, но справедливый протест против такого не- законного обогащения. Незаконное пикетирование почему-то криминализировано, а незаконное обогащение нет.
Относительная распространенность незаконного обогащения публичных должностных лиц, по моему мнению, также не требует особых доказательств. Упомянутые нами резонансные дела, многомиллионные иски прокуроров – это только малая часть айсберга, истинные размеры которого «опунктирены» пока только в оппозиционных средствах массовой информации и интернете.
Попытки уменьшить масштабы этого опасного явления только с помощью средств, предоставляемых гражданским, служебным и финансовым правом , заведомо обречены на неудачу. Чем в настоящее время рискует чиновник, у которого обнаружено имущество, значительно превышающее его законные доходы? Его уволят с работы и после затратных процедур изымут незаконные доходы. Для виновника риски невелики – всего-то лишился имущества, которое по закону ему и так не принадлежит, а работу найдет другую. В то же время государство для того, чтобы вывести его «на чистую воду», провело огромную предварительную работу.
Одно из достижений современной антикоррупционной кампании как раз и состоит в том, что в России создана система отслеживания доходов публичных должностных лиц. Добровольно поступая на публичную службу, гражданин соглашается с ограничениями имущественного характера, заполняет справку о доходах, а затем делает это ежегодно. Таким образом, создан мощный ресурс для снижения масштабов незаконного обогащения уголовно-правовыми средствами . Возможность привлечения публичных должностных лиц к уголовной ответственности за незаконное обогащение создаст неплохой специально-предупредительный и общепредупредительный эффект.
Криминализация незаконного обогащения соответствует общеправовым принципам: международно-правовой необходи- мости и допустимости, конституционной адекватности, системно-правовой непротиворечивости и процессуальной допустимости преследования (см. [5, с. 208–242]). Введение уголовной ответственности за незаконное обогащение рекомендовано статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Непротиворечивость этой идеи Основному закону России подтвердил Конституционный Суд Российской Федерации. Незаконное обогащение рассматривается в качестве правонарушения и другими отраслями права.
Некоторые исследователи считают, что основным препятствием для введения уголовной ответственности за незаконное обогащение является презумпция невиновности. Чтобы реализовать это предложение «в законодательный оборот параллельно с понятием «презумпция невиновности» необходимо будет ввести понятие «презумпция виновности» за незаконное обогащение, когда активы должностного лица многократно превышают его законные и задекларированные доходы. В рабочем первоначальном варианте презумпцией виновности можно считать обязанность обвиняемого (подсудимого) в коррупции должностного лица доказать на следствии и в суде легитимность и законность полученных ими доходов или имущества» ([3, с. 101]). Считаю, что подобная корректировка нам не помешает, тем более что лицо, добровольно поступающее на службу, соглашается со всеми ограничениями конституционных прав и свобод, имманентных публичному статусу.
Вместе с тем, на мой взгляд, и в рамках действующего законодательства нет особых проблем с доказыванием незаконности происхождения имущества. Возможно, дискуссия о презумпции вызвана недопониманием разницы между гражданским и уголовным процессами. В гражданском процессе бремя подтверждения обстоятельств по искам безосновательного обогащения ложится на приобретателя имущества (см. [25]).

Доказывание незаконного обогащения в уголовном процессе будет осуществляться, как обычно, стороной обвинения. Есть, правда, небольшая специфика. Наряду с другими обстоятельствами доказыванию подлежит нарушение правил, установленных нормами гражданского, финансового и служебного права. Но ведь это тоже не бог весть какое революционное нововведение. Я подсчитал, что 34 статьи УК РФ предусматривают ответственность за нарушение различных правил, 35 статей – за незаконные действия (усыновление, приобретение оружия и т. д.). И подобные законодательные конструкции почему-то «не противоречат принципам российского права».
На фоне детально прописанных требований к служебному поведению рассуждения о том, как трудно доказать умышленное нарушение правил законного приращения имущества, вызывают горькую улыбку. Еще можно представить, что чиновник не заметил приблудившуюся к его двору чужую овцу или по рассеянности не внес это животное в свою декларацию. Но насколько же небрежным и самонадеянным надо быть, чтобы не указать в декларации «приблудившееся» стадо или «приблудившийся» коттедж? Или в левом кармане случайно найти неизвестно как туда попавшие деньги, которых, впрочем, хватило на приобретение престижного авто.
Руководствуясь изложенным и опираясь на разработки специалистов-предшественников, еще раз предлагаю для обсуждения и критики проект новой статьи УК РФ 5.
Статья 2891. Незаконное обогащение
-
1. Незаконное обогащение, то есть приобретение публичным должностным лицом имущества, стоимость которого значительно превышает законные доходы этого лица, наказывается лишением свободы до пяти лет с конфискацией имущества, пре-
- вышающего законные доходы публичного должностного лица, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества, превышающего законные доходы публичного должностного лица.
-
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы до семи лет с конфискацией имущества, превышающего законные доходы публичного должностного лица.
-
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, превышающего законные доходы публичного должностного лица.
Список литературы Проблемы и перспективы криминализации незаконного обогащения публичных должностных лиц
- Гаганов А. Как узаконить незаконное обогащение?: [официальный сайт «Партии нового типа»]. URL: http://1pnt.ru/actuals/kak-uzakonit-nezakonnoe-obogaschenie
- Лозинский И. В. Реализация принципов криминализации и законодательной техники в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Томск: издательство Томского университета, 2013. 168 c.
- Моисеев В. П., Моисеева А. В. Незаконное обогащение как угроза национальной безопасности России // Обеспечение национальной безопасности России в современном мире. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2016. С. 97-103.
- Новак Д. В. Неосновательное обогащение в гражданском праве. М.: Статут, 2010. 216 с.
- Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) / отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. М.: Наука, 1982. 303 с.