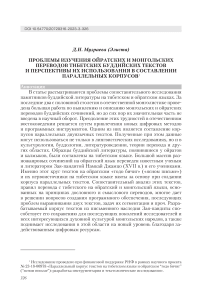Проблемы изучения ойратских и монгольских переводов тибетских буддийских текстов и перспективы их использования в составлении параллельных корпусов
Автор: Музраева Д.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы сопоставительного исследования памятников буддийской литературы на тибетском и ойратском языках. За последние два с половиной столетия в отечественной монголистике проведена большая работа по выявлению и описанию монгольских и ойратских переводов буддийских сочинений, но до сих пор их значительная часть не введена в научный оборот. Преодоление этих трудностей в отечественном востоковедении решается путем привлечения новых цифровых методов и программных инструментов. Одним из них является составление корпусов параллельных двуязычных текстов. Полученные при этом данные могут использоваться не только в лингвистических исследованиях, но и в культурологии, буддологии, литературоведении, теории перевода и других областях. Образцы буддийской литературы, появившиеся у ойратов и калмыков, были составлены на тибетском языке. Большой массив разножанровых сочинений на ойратский язык переведен известным ученым и литератором Зая-пандитой Намкай Джамцо (XVII в.) и его учениками. Именно этот круг текстов на ойратском «тодо бичиг» («ясном письме») и их первоисточники на тибетском языке взяты за основу при создании корпуса параллельных текстов. Сопоставительный анализ этих текстов, правил перевода с тибетского на ойратский и монгольский языки, основанных на принципах дословного и смыслового переводов, многое дает в решении вопросов создания программного обеспечения, последующих проблем выравнивания двух текстов, задач их сегментации и проч. Разрабатываемый корпус текстов из письменного наследия Зая-пандиты способствует его сохранению для последующих поколений исследователей и всех интересующихся духовной культурой монгольских народов, а также поднимает исследования в этой области на новый уровень благодаря задействованным цифровым ресурсам.
Буддийские переводная литература, зая-пандита намкай джамцо (xvii в.), тибетский и ойратские языки, правила перевода, параллельный корпус, принципы создания
Короткий адрес: https://sciup.org/149143107
IDR: 149143107 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-326
Текст научной статьи Проблемы изучения ойратских и монгольских переводов тибетских буддийских текстов и перспективы их использования в составлении параллельных корпусов
Введение.
Современные тенденции в изучении памятников буддийской переводной литературы
Буддийская переводная литература, созданная монголами и ойратами, является составной частью литературно-книжной традиции монгольских народов. Переводы с тибетского языка на монгольский и ойратский языки сыграли важную роль в популяризации и распространении буддийского учения среди монголоязычных народов, в том числе среди проживающих в России калмыков и бурят. Их собственные письменные и литературные традиции сформировались под влиянием многовековых культурных и религиозных контактов с Тибетом и Монголией как центрами буддизма.
Исследователи не раз отмечали, что ойраты (исторические предки калмыков) «жили в более бурную историческую эпоху, нежели прочие монгольские этнические группы, а потому у них не было возможности более спокойно в мирных условиях заниматься упорядочением своей письменности, в частности, они не располагали условиями для широкого развития ксилографического издательства различной литературы» [Санжеев 1977, 74]. Как следствие, ойратская письменность функционировала преимущественно в виде рукописных сочинений с ограниченным тиражом [Санжеев 1977, 75].
Несмотря на то что за период в два с половиной столетия отечественными монголоведами осуществлена большая работа по выявлению и описанию монгольских и ойратских переводов буддийских сочинений, их значительная часть до сих пор не введена в научный оборот. Отчасти причиной тому является плохая сохранность (заметные утраты в дошедших до наших дней списках и копиях), а также дисперсное хранение в многочисленных государственных и частных коллекциях России и зарубежья. Последнее весьма затрудняет доступ к подобным рукописным материалам со стороны исследователей. Преодоление этих трудностей решается новыми методологическими установками в востоковедении, позволяющими проводить комплексные исследования с привлечением новых цифровых методов и программных инструментов. С 1980-х гг. в отечественном востоковедении предпринято изучение письменных памятников на восточных языках с использованием компьютерных технологий. Идеи распознавания и обработки рукописных и ксилографических текстов на восточных языках, включая материалы на тибетском и монгольских языках, проблемы клавиатурного ввода текстов, создания программ, баз данных и каталогов продолжают оставаться актуальными направлениями современных исследований.
В области изучения буддийского письменного наследия, литературных традиций ойратов и калмыков актуальным становится внедрение корпусных методов, при этом полученные данные могут использоваться не только в лингвистических исследованиях (лексикографии, сравнительном языкознании и проч.), но также и в текстологических исследованиях, литературоведении, культурологии, буддологии, в разработке вопросов теории перевода и других областях.
Тибетские и ойратские сочинения из письменного наследия Зая-пандиты Намкай Джамцо (XVII в.)
Исторически сложилось так, что образцы буддийской литературы из состава канонических сводов Ганджура и Данджура, появившиеся у ойра-тов и калмыков, были на тибетском языке. Большой массив текстов буддийской тематики с тибетского языка на ойратский был переведен известным религиозным деятелем, ученым и литератором Зая-пандитой Намкай Джамцо (1599–1662) на новую письменность «тодо бичиг» («ясное письмо»), созданную им в 1648 г. Его переводческая работа способствовала популяризации и распространению буддизма среди монгольских народов.
Первоисточники на тибетском языке из состава канона, переведенные Зая-пандитой и его учениками, представлены разножанровыми сочинениями из разряда философских трактатов, описаниями культов божеств буддийского пантеона и связанными с ними литургическими текстами, а также описаниями обрядов, текстами жанра «дхарани» (заклинаний, молитвенных формул), медицинскими и астрологическими трудами и проч. В настоящее время образцы ойратских переводных памятников хранятся во многих мировых востоковедческих центрах и архивах.
«Ясное письмо» использовалось калмыками вплоть до первой трети XX в. Самый поздний из известных переводов с тибетского языка, записанных на «тодо бичиг», – это памятник «Море притч» (1968 г.), автором которого является калмыцкий священнослужитель Тугмюд-гавджи (О.М. Дорджиев, 1887–1980).
Духовное наследие Зая-пандиты Намкай Джамцо на протяжении двух с половиной столетий продолжает оставаться объектом изучения ойратоведов. Для школы перевода Зая-пандиты и его ближайших учеников характерно строгое следование тексту тибетского оригинала, иногда в ущерб порядку слов, характерному для монгольских языков. Помимо этого, в ойратских переводах не допускались пропуски слов и добавления лишних. Важным моментом в работе переводчика было стремление передать смысл каждого слова тибетского первоисточника и использование одних и тех же эквивалентов для передачи буддийской терминологии. Именно поэтому переводы Зая-пандиты расцениваются исследователями как дословные переводы (в отличие от смысловых, допускавших внесение добавлений, поясняющих исходный текст).
Характеризуя принципы построения орфографии ойратского письменного языка, которой придерживался Зая-пандита и на который он переводил, академик Б.Я. Владимирцов отмечал, что создатель письма «больше думал о филологах и школьниках, чем о практических деятелях» [Владимирцов 1932, 14]. Опыт создания письма, принципы перевода, которыми руководствовался ойратский просветитель XVII в., в определенной степени подвели исследователей КалмНЦ РАН к решению создать корпус параллельных текстов из числа переведенных Зая-пандитой и его последователями, а также их исходных текстов на тибетском языке.
О разновидностях монгольских и ойратских переводов с тибетского языка
Принципы перевода сакральных буддийских текстов складывались на протяжении длительного периода. Особую значимость в истории буддийской переводной литературы, созданной монголами и ойратами, имеет период XVII–XVIII вв., в продолжение которого был осуществлен полный перевод с тибетского языка Ганджура – первой части буддийского канона на монгольском языке, а затем и перевод второй части свода Данджура [Музраева 2013, 9]. Правила перевода с классического тибетского языка на монгольский были зафиксированы в ряде терминологических словарей, главным из которых признается словарь под названием «Источник мудрецов» (первая треть XVIII в.) [Музраева 2013, 20–32].
В истории переводной монгольской литературы исследователи выделяют два вида переводов: дословный (пословный) и смысловой (по другим определениям – свободный). Для первого типа переводов характерно стремление авторов переводить тибетский текст слово в слово, ничего не прибавляя от себя. Что касается второй разновидности переводов, то в них авторы-переводчики могли вводить поясняющие слова и даже предложения, а при передаче стихов добавляли от себя некоторые слова, что было вынужденной мерой.
Творчество Зая-пандиты, на наш взгляд, занимает главенствующее место в истории переводов и переводческой практики второй трети XVII в. Установленная им традиция дословного перевода религиозных книг и другой буддийской литературы по разным отраслям знания с тибетского языка на монгольский и ойратский языки стала канонической и получила продолжение в трудах следующих поколений переводчиков [Музраева 2013, 68].
Одним из ярких примеров дословного перевода может послужить ойратский перевод тибетского «Дзанлундо» (или «Сутры о мудрости и глупости») [Dz] в исполнении Зая-пандиты под названием «Море притч» (середина XVII в.) [UDZ]. Ниже в качестве иллюстрации представлены фрагменты в виде фраз (предложений) из исходного тибетского текста и соответствующего ему перевода Зая-пандиты (все эти и последующие примеры сопровождены нумерацией в квадратных скобках; подстрочный перевод с тибетского, ойратского и монгольского наш. – Д.М.).
Тиб .: de’i tshe na yul de na khyim bdag cig la khye’u zhig btsas nas khye’u de dbyibs legs shing lta na sdug la bzang ba zhig ste | [Dz: 25a (3–4)].
‘В то время в той стране у одного домохозяина, когда родился сын, то внешность у этого сына была красивая, если взглянуть, приятен взору’.
Ойр .: tere caqtu tere oron-du nige geri/-yin ezen-dü nige küböün törön: tere küböün sayin düritei üzekülē tālam ǰ itai nigen sayin caqtu bolboi : [UDZ: 18a].
‘В то время в той стране у одного домохозяина родился сын, тот мальчик [обладал] красивой внешностью, приятной взору’.
Тиб .: bcom ldan ’das kyis kun dga’ bo la bka’ stsal pa [Dz: 26a (3)].
‘Бхагаван (или «Ушедший с победой», эпитет Будды) поведал Гунгабо (Ананде)’.
Ойр .: ila γ ün tögüsüqsen Ānanda-du zarliq bolboi : [UDZ: 19a]. ‘Бхагаван поведал Ананде’.
Тиб .: bcom ldan ’das kyis de skad ces gsungs pa la ’khor mang po thams cad yi rangs te mngon par dga’ ’o || [Dz: 26b (5)].
‘Когда Бхагаван так изрек, все многочисленные сподвижники вслед сказанному возрадовались, стали явно проявлять радость’.
Ойр .: ila γ ün tögüsüqsen teyin kemēn zarliq boluqsan-du: olon nöküd bügüde gesün ilerkei bayasbai : [UDZ: 22a].
‘Когда Бхагаван так изрек, все многочисленные сподвижники вслед сказанному возрадовались, стали явно проявлять радость’.
Все приведенные цитаты из «Моря притч» как нельзя лучше иллюстрируют переводческую технику Зая-пандиты. Показанные примеры демонстрируют, как отражается принцип перевода на практике (практически равная длина предложений в исходном тексте и в тексте перевода). Этот момент представляется важным в вопросе составления параллельного корпуса текстов с выделением в них структурных единиц (предложений, глав и проч.), для которого весьма проблематичным представляется этап выравнивания двух текстов – исходного и переводного.
Принципы составления смыслового перевода в монгольской письменной традиции можно проследить на примере перевода «Сутры под названием “Море притч”», автором которого является известный монгольский переводчик конца XVI – начала XVII в. Ширээт-гуши-цорджи. Ниже представлены примеры из исходного тибетского текста «Дзанлундо» («Сутры о мудрости и глупости») и соответствующие им фрагменты из текста перевода Ширээт-гуши-цорджи. В них также первым приводится фрагмент тибетского исходного текста [Dz], параллельно ниже соответствующий ему перевод, взятый из старописьменного монгольского текста [UDSh].
Тиб .: de’i tshe na yul de na khyim bdag cig la khye’u zhig btsas nas khye’u de dbyibs legs shing lta na sdug la bzang ba zhig ste| [Dz: 25a (3–4)].
‘В то время в той стране у одного домохозяина родился сын, внешность у этого сына была красивая, если взглянуть, приятен взору’.
Монг .: tere ča γ -tur tere γaǰar -daki nigen ger-ün eǰen - t ür γou-a üǰesküleng -tü öngge sayitu teyimü nigen köbegün töröbei : [UDSh: 20b].
‘В то время в той стране ( зд. букв . в той земле) у одного домохозяина родился ( досл . такой) сын с прекрасной внешностью’.
Как видно из приведенного выше примера [4], переводчик опускает фрагмент фразы о том, что внешность рожденного была прекрасна, стоило только взглянуть на него.
Тиб .: bcom ldan ’das kyis kun dga’ bo la bka’ stsal pa [Dz: 26a (3)]. ‘Бхагаван поведал Гунгабо (Ананде)’.
Монг .: ilaǰu tegüs nögčigsen burqan Ananda- t ur eyin kemen ǰarliγ bol-bai : [UDSh: 21b].
‘Бхагаван Будда так изрек, обращаясь к Ананде’.
Пример [5] демонстрирует, как монгольский переводчик при описании главных персонажей (Будды и одного из его ближайших учеников Ананды) к эпитету первого Бхагаван (или «Ушедший с победой») добавляет burqan (т. е. «Просветленный»), который в переводах на русский язык обычно передается как Будда. Примечательно, что в переводе Ширээт-гу-ши-цорджи можно встретить примеры того, как вместо эпитета Бхагаван ( ilaǰu tegüs nögčigsen ) приводится Будда ( burqan ).
В следующем примере приведена фраза, которой обычно завершаются сочинения из разряда сутр, проповеданных Буддой. Здесь монгольский переводчик при описании окружения Будды пропустил слово mang po в довольно распространенном, устойчивом словосочетании ’khor mang po со значением «многочисленная свита».
Тиб .: bcom ldan ’das kyis de skad ces gsungs pa la ’khor mang po thams cad yi rangs te mngon par dga’ ’o || [Dz: 26b (5)].
‘Когда Бхагаван так изрек, все многочисленные сподвижники вслед сказанному возрадовались, стали явно проявлять радость’.
Монг .: ilaǰu tegüs nögčigsen burqan teyin kemen ǰarliγ boluγsan- t ur: qamuγ nököd bügüdeger masi bayasun taγalabai :: [UDSh: 22a].
‘Когда Бхагаван Будда так изрек, сподвижники все вместе очень обрадовались и выразили одобрение’.
Одной из особенностей смысловых переводов, не раз отмечавшейся исследователями, является ввод дополнительных поясняющих слов, словосочетаний и фраз. Подобные примеры мы находим и в переводе Ширээт-гуши-цорджи. В следующем примере [7] в пределах одной фразы мы можем указать сразу на два его нововведения: использование обращения к юноше в начале фразы и новое дополнение при перечислении (в транслитерации и переводе они выделены подчеркиванием):
Тиб .: khye’u-la | khyod lha’am| klu’am | yi-dags sam | gnod sbyin nam ci zhig ces smras-so || [Dz: 31b (4)]
‘[Обращаясь] к юноше: ты не тенгрий (‘небожитель’), не дракон, не прета (‘дух, испытывающий голод и жажду’), не якша (‘дух природы’) ли? Кто ты? – так спросил’.
Монг .: ai köbegün či tngri buyu: luu buyu: burqan buyu: yagsas buyu: agsan buyu: ken (2) bolbai kemen ǰarliγ bolbasu : [UDSh: 26b–27a]
‘ О, юноша! Ты не тенгрием, не драконом, не буддой , не претой, не якшей ли являешься? Кто ты? ( букв. кем стал?) – так спросил’.
В следующем примере переводчик вводит обращение к хану, которого именует «великим ханом», хотя в тибетском исходном тексте подобная характеристика царя отсутствует, о нем повествуется в нейтральной тональности.
Тиб .: da ’di ’dra-bar gyur-na rgyal-pos thugs brtse-bar dgongs-te bdag rab-tu ’byung-bar gnong zhig ces gsol-pa dang | [Dz: 32a (2–3)].
‘Теперь, поскольку случилось такое, царь проявит милосердие, соизволит разрешить мне стать монахом, – так сказал, <...>’.
Монг .: ai yeke qaγan -a edüge yeke nigülesküi sedkil-iyer örösiyeǰü na-mayi toyin bol γ an soyurq-a kemen öčibesü : [UDSh: 27a].
‘ О, великий хан! Теперь, проявив великое милосердие, соблаговоли разрешить мне стать монахом, – так, когда сказал <...>’.
В переводе Ширээт-гуши-цорджи мы можем наблюдать наличие дополнительно вводимых фраз, поясняющих основную канву повествования. Помимо этого, переводчик не всегда строго следует строю тибетского предложения, в своем переводе он может переставлять местами части сложного предложения, что наглядно видно из следующего примера:
Тиб .: bdag-la bu cha med de lha khyod yon-tan tshad med-pa dang ldan zhes thos-kyi ’gro-ba kun-la skyob-pa [Dz: 29b (5)].
‘У меня нет сына; о том, что ты тенгрий преисполнен неизмеримыми качествами, услышал, всех живых существ защищаешь’.
Монг .: ai tngri čimayi ča γ ügei erdem-tü kemen sonosbai: qamu γ -i ib i gegči tngri-e nadur köbegün ügei bülüge : nigen köbegün-i öggün soyu-rq-a : [UDSh: 25a].
‘ О тенгрий! Услышал, что ты [обладаешь] неисчислимыми качествами (заслугами). Защищающий всех тенгрий, у меня нет сына. Соблаговоли даровать одного сына’ .
Все приведенные примеры призваны проиллюстрировать разновидность смыслового перевода, которого придерживался Ширээт-гуши-цорджи.
Тексты переводной литературы, основанные на принципах (правилах) смыслового перевода, можно расценивать как художественные тексты, которые также привлекаются в составлении корпусов параллельных двуязычных текстов [Михайлов 2003].
Что дает сопоставительный анализ ойратских и монгольских переводных сочинений с исходными тибетскими текстами для решения проблем создания параллельного корпуса?
Разработка параллельного двуязычного корпуса старописьменных текстов на ойратском «ясном письме» и классическом тибетском языке находится пока на начальном этапе, программное обеспечение проекта тоже еще в процессе разработки. Однако анализ специальной литературы по корпусно-ориентированным исследованиям, а также эмпирического материала, который будет задействован в настоящем проекте, подготовка образцов текстов позволяют выделить некоторые существенные моменты, которые будут способствовать его реализации.
Целью проекта является составление параллельного двуязычного корпуса (в отличие от существующих на сегодняшний день моноязычных, а также многоязычных или полиязычных корпусов) текстов. Создатели параллельных корпусов не раз обращали внимание на то, что существует ощутимая разница, когда тексты двуязычного корпуса представлены на двух близкородственных языках, и когда эти языки обладают отличной друг от друга лингвистической структурой. Последняя характеристика как нельзя лучше отражает лингвистический материал разрабатываемого корпуса: тибетский язык относится к сино-тибетской языковой семье, с точки зрения системы письма – это слоговое письмо, горизонтальное; ойратский (или старокалмыцкий) язык является одним из монгольских языков, т.е. агглютинативный, тексты записаны вертикальным письмом «тодо бичиг», созданным Зая-пандитой на основе уйгуро-монгольского. Поскольку программы распознавания старописьменных тибетских и ой-ратских текстов пока только разрабатываются, в данном проекте неминуемо использование научной транслитерации на латинице.
Одна из первых по значимости задач состоит в установлении соответствий между двумя текстами. Важным моментом, который расценивается разработчиками корпусов как один из проблематичных, является этап сегментации, разбивки текстов на определенные сегменты (предложения, главы, слова, словосочетания, морфемы и т.д.) [Потемкин 2012, 141]. В создаваемом корпусе критерием сегмента текста выступает предложение. Приведенные ранее примеры [1] – [3] из перевода Зая-пандиты и соответствующих фрагментов исходного тибетского текста позволяют предположить, что эта задача решаема.
Ряд проблем связан с таким важным и сложным этапом работы, каким является процесс выравнивания двух параллельных текстов – исходного и переводного – на начальном этапе на уровне предложений, в дальнейшем на уровне словосочетаний и слов. Последнее касается различий в порядке слов между тибетским и ойратским языками.
Как было сказано ранее о дословных переводах Зая-пандиты, такого рода тексты, на наш взгляд, как нельзя лучше подходят для создания параллельных корпусов. Это объясняется не только индивидуальной переводческой техникой самого ойратского просветителя, но и общим подходом к переводам, которым руководствовались просвещенные ламы XVI–XVIII вв., а именно стремлением максимально точно передать переводимый текст, который расценивался как слова, произнесенные самим Буддой, поэтому в него нельзя было добавлять лишнее и не допускались пропуски. Именно такие переводы как нельзя лучше отвечают требованиям при составлении программ параллельных корпусов исходных и переводных текстов.
Смысловые переводы как вторая разновидность переводов буддийских текстов были рассмотрены на примере творчества Ширээт-гуши-цорджи. Такого рода переводы в определенной степени близки к художественным переводам и сопряженными с ними проблемами при создании параллельных корпусов. Среди них можно перечислить такие моменты, как проблема выравнивания текстов, вызванная несоответствиями между ними (границы предложений могут не совпадать, исходное предложение может переводиться двумя предложениями, отдельные предложения исходного текста могут выпадать в переводном, в последнем могут содержаться дополнительно введенные слова и фразы, части сложного предложения могут переставляться местами и проч.). В смысловых переводах гораздо чаще, чем в дословных, проявляется различие в порядке слов между исходным и переводящим языком, что также создает проблему при выравнивании на уровне слов и словосочетаний. Разработчики параллельных корпусов художественных текстов подчеркивают, что выдержать классические принципы составления корпусов текстов в их проектах представляется весьма затруднительным. Такого рода собрание текстов, скорее всего, осуществимы в виде параллельной электронной антологии [Михайлов 2003, 37–38].
Предварительный анализ текстового материала на двух восточных языках, а также имеющихся методик составления корпусов, выравнивания параллельных текстов позволяет сформулировать следующие принципы формирования параллельного корпуса тибетских и ойратских текстов:
– основу корпуса составят переводы буддийских памятников, выполненные Зая-пандитой и его ближайшими учениками и последователями;
– в нем будут собраны по возможности полные тексты из числа переводов Зая-пандиты, при этом основным критерием отбора текстов для перевода является их принадлежность к культурному кругу северного буддизма; они представляют буддийское учение во всей полноте;
– синхроничность ойратских переводов и исходных тибетских текстов;
– наличие фрагментов равной длины.
Заключение
Материалы, представленные в создаваемом параллельном корпусе тибетских и ойратских текстов, представляют большой научный интерес не только в плане проведения лингвистических исследований, но и в разработке проблем текстологии, литературоведения, культурологии, буддологии, вопросов теории перевода и других областях.
Помимо того, что в корпусе будут собраны и зафиксированы тексты из письменного наследия выдающегося ойратского просветителя XVII в. За-я-пандиты Намкай Джамцо, равно как и их первоисточники на тибетском языке, взятые за основу перевода, это будет способствовать его сохранению для последующих поколений исследователей и всех тех, кто интересуется буддийской составляющей духовной культуры калмыков и ойратов.
Сравнительно-сопоставительный анализ переводов с тибетского языка, записанных на ойратском «тодо бичиг», проводившийся до недавних пор с опорой на традиционные источники данных, хотя и с использованием компьютера, но фактически вручную, благодаря цифровым ресурсам, заключенным в параллельном корпусе, поднимает исследования в этой области на новый уровень.
Список литературы Проблемы изучения ойратских и монгольских переводов тибетских буддийских текстов и перспективы их использования в составлении параллельных корпусов
- Владимирцов Б.Я. Монгольские литературные языки (К латинизации монгольской и калмыцкой письменности) // Записки Института востоковедения Академии наук СССР. I. Л.: Издательство Академии наук СССР, 1932. C. 1-17.
- Михайлов М. Параллельные корпуса художественных текстов: принципы составления и возможности применения в лингвистических и переводоведческих исследованиях на примере русскофинского параллельного корпуса художественных текстов: Academic Dissertation. Tampere: University of Tampere, 2003. 348 p. EDN: HLELLP
- Музраева Д.Н. Синтаксические особенности поздних ойратских переводных памятников (на материале рукописи перевода Тугмюд-гавджи Oulgurun dalai "Море притч") // Урало-алтайские исследования. 2020. № 4(39). С. 24-40. EDN: SKILWT
- Музраева Д.Н. Тибето-монгольская повествовательная литература XVII-XVIII вв. (Переводные письменные памятники на монгольском и ойратском языках). Элиста: Джангар, 2013. 150 с. EDN: SJGXRV
- Потемкин С.Б. Проблемы разработки параллельного корпуса переводов русской классики // Вестник Военного университета. 2012. № 2(30). С. 138-145.
- Орлова К.В. Описание монгольских рукописей и ксилографов, хранящихся в фондах Калмыкии. Бюллетень Общества востоковедов. Вып. 5. М.: Общество востоковедов РАН, КИГИ РАН, 2002. 85 с.
- Санжеев Г.Д. Лингвистическое введение в изучение истории письменности монгольских народов. Улан-Удэ: БИОН, 1977. 161 с.