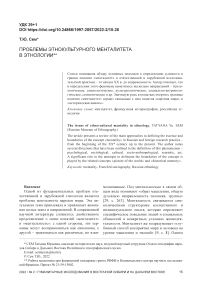Проблемы этнокультурного менталитета в этнологии
Автор: Сем Татьяна Юрьевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Дискуссионные вопросы антропологии и этнографии
Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обзору основных подходов к определению сущности и границ понятия «менталитет» в отечественной и зарубежной исследовательской практике - от начала xx в. до современности. Автор отмечает, что в определении этого феномена наметилось несколько направлений - психологическое, социологическое, культурологическое, социально-антропологическое, семиотическое и др. Значимую роль в попытках очертить границы понятия «менталитет» играют связанные с ним понятия «картина мира» и «историческая память».
Менталитет, французская историография, российская этнология
Короткий адрес: https://sciup.org/170195088
IDR: 170195088 | УДК: 39+1 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-2/15-26
Текст научной статьи Проблемы этнокультурного менталитета в этнологии
Одной из фундаментальных проблем отечественной и зарубежной этнологии является проблема менталитета народов мира. Эта актуальная тема привлекала и привлекает внимание целых школ и направлений. В современной научной литературе сложилось двойственное представление о связи понятий «менталитет» и «ментальность»: с одной стороны, эти термины могут восприниматься как синонимы, с другой – трактоваться как различные, но взаи- мосвязанные. Под ментальностью в самом общем виде понимают «образ мышления, общую духовную направленность человека, группы» [29, с. 263]. Ментальность связывается символическими структурами коллективного и индивидуального опыта, которые определяют специфическое поведение людей и социальных общностей в конкретных условиях жизнедеятельности. Менталитет же подразумевает «глубинный способ восприятия мира и человека на уровне мышления и эмоций» [9, с. 8]. Одним из первых на взаимосвязь этих понятий обратил внимание В.В. Козловский. Он отмечал, что менталитет выражает упорядоченность ментальности и определяет стереотипное отношение к окружающему миру [10, с. 33].
Исследователи отмечали, что менталитет, как относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции и общества [3, с. 284; 16, с. 30, 35, 38–39]. Эти представления обусловлены географической средой, пространственно-временными представлениями, образом жизнедеятельности, гендерными стереотипами, отношением к природе, труду, собственности, власти, представлениями о добре и зле, красоте и истине, судьбе, жизни и смерти, и составляют структуру менталитета [15].
Целью данной статьи является исследование представлений о сущности и границах понятия «менталитет» в историографической ретроспективе от французской этнологической школы до современных отечественных исследований.
Классики французской этнологии о ментальности
В конце ХІХ – начале ХХ вв. идея менталитета разрабатывалась во французской этнологической науке. В научный оборот слово «ментальность» было введено в журнале Э. Дюркгейма «Социологический ежегодник», в котором появилась рубрика под названием «Групповая ментальность». Он видел в ментальности основу групповой солидарности общества [23, с. 46]. Но специальное исследование о проблеме менталитета впервые было предпринято Люсьеном Леви-Брюлем. Он характеризовал менталитет как психологическую единицу. В книге «Первобытный менталитет» Леви-Брюль отмечал, что мышление первобытных людей отличается от европейского безразличием к рассудочной операции мысли и причинной связи, оно основано на мистических сопричастиях и предассоциациях, аффектах и с помощью сверхъестественного «здраво объясняет все происходящее» [30, с. 91; 31, с. 23–24]. В труде «Сверхъестественное в первобытном мышлении» он писал, что, «являясь мистическим по своей сущности, пралогиче-ское мышление не видит никакого затруднения в том, чтобы одновременно представлять себе и ощущать тождество единого и множествен- ного, особи и вида, самых различных между собой существ, и все это благодаря их парти-ципации» [30, с. 113]. Леви-Брюль определял первобытный менталитет как «прелогический» [31, с. 42–43, 75, 354]. Современные исследователи видят главную заслугу Леви-Брюля в том, что он впервые выдвинул идею качественных межкультурных различий в мышлении в процессе его исторического развития [1, с. 584– 585]. Однако начиная с появления американской школы исторической этнологии понятие прелогического мышления, как отличного от научного, критиковалось учеными. Об этом писали Ф. Боас, Э. Кассирер, К. Леви-Строс [3, с. 127]. Тем не менее, сам Л. Леви-Брюль отмечал, что дологическое мифологическое мышление является неотъемлемой стороной культуры вообще, в том числе европейской [1, с. 579]. Классик символического направления Э. Кассирер, споря с Леви-Брюлем, полагал, что примитивная ментальность отличается от нашей не особой логикой, а своим восприятием природы, не делающим эмпирических различий между вещами [25]. К. Леви-Строс в работе «Неприрученная мысль» писал, что первобытное магическое мышление способно к логическим операциям типа классификации на уровне чувств, используя законы тождества и противоречия, бинарные оппозиции. Он вводит понятие бриколажа как особенной характеристики мифологического мышления. Важной спецификой классифицирования, рассмотренного им на примере тотемизма, исследователь считал наличие определенных кодов, пригодных для переноса сообщений в другие коды [32, с. 126, 171–172]. Леви-Строс полагал, что логика мифологического мышления оперирует определенными структурами и что миф «использует структуру, чтобы создать некий абсолютный объект, выглядящий как совокупность событий» [32, с. 134].
Основатели школы «Анналов»о ментальности
Значимую роль в исследовании ментальности сыграла школа новой исторической науки во Франции, сложившаяся в конце 1920-х – 1930-е гг. вокруг основанного М. Блоком и Л. Февром журнала «Анналы». Для этой школы было характерно обращение к антропологическому взгляду на историю и привлечение в исторические исследования материалов и методик смежных наук – социологии, этнографии, географии, лингвистики, а также включение в качестве предмета для изучения массовых представлений людей определенной эпохи. М. Блок в книге «Апология истории или ремесло историка» отмечал, что «история обращена к человеку и обществу», это «обширный и разнообразный опыт человечества», а предметом истории является «зрелище человеческой деятельности», сам «человеческий дух» [8, с. 10, 13, 17]. Главная задача историка – «понимать душу человека» [8, с. 79]. Характеризуя фундаментальную работу М. Блока «Феодальное общество», А.Я. Гуревич подчеркивал, что историк в отдельном разделе этой книги «останавливается на отношении человека к природе и ко времени, на религиозности, коллективной памяти, эпосе и праве – на ряде черт человеческой ментальности, рассматривая их в тесной связи с анализом социальной структуры и основ материальной жизни» [14, с. 211].
Люсьен Февр в работе «Бои за историю» писал, что история – «наука о человеке, о прошлом человечества», «научный способ познания различных сторон деятельности людей прошлого и их различных достижений», «история должна основываться на изучении людей и их поступков» [40, с. 19, 26, 107]. Он считал, что «когда мы нисходим в собственные глубины, когда мы ищем в них самих себя, мы с удивлением обнаруживаем ... бесчисленные следы, оставленные нашими предшественниками, потрясающие свидетельства былых веков, древние верования, давнишние формы чувств и мыслей, которые каждый из нас, сам того не зная, наследует в личности своего рождении» [40, с. 44]. Таким образом, представители школы «Анналов» характеризовали менталитет как глубинные структуры массовых представлений людей определенной эпохи, их культурных ценностей, исторической памяти.
Последователи школы «Анналов» – «История ментальностей»
Работы последователей школы «Анналов» 1960-х – 1990-х гг. продолжили изучение проблем менталитета (Ф. Бродель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, М. Ферро, А. Бюргьер и др.). Это направление получило название «история ментальностей», «историческая антропология». В определении ментальности оформилось несколько направлений – психологическое, культурологическое, социально-антропологическое. Ж. Дюби в статье «История ментально- стей» 1961 г. характеризует ментальность как психологические особенности людей далеких эпох и современности, их «чувства, эмоции, ценностные системы» [23, с. 18]. А. Дюпрон в статье «Проблемы и методы истории коллективной психологии» 1961 г. рассматривает историю ментальностей как историю коллективных представлений, включающую в себя историю ценностей, культурных форм, символики, мифов. Согласно его представлениям, цель социальной истории – синтез ментального и социального [23, с. 22–23].
Ф. Гаус в своем выступлении на конференции 1985 г. «Ментальности в Средневековье» высказал мнение, что менталитет не тождественен высказываемым мыслям и видимым образам действия – он стоит за ними и определяет границу между тем, что человек вообще может помыслить и тем, что он ощущает как «немыслимое» [23, с. 80].
Ряд исследователей писали о структуре ментальности как картины мира и призывали к ее изучению, образуя, таким образом, культурологическое направление исследования ментальности. Ф. Арьес указывал, что современный интерес к истории ментальностей обусловлен желанием общества «вывести на поверхность сознания чувства и представления, которые скрыты в глубинах коллективной памяти» [23, с. 29]. А. Бюргьер в статье «Историческая антропология» 1978 г. констатирует, что понятие «ментальность» было бы опасно заключать как в чисто психологические рамки, так и в рамки истории идей, «которой свойственно выводить ментальности из доктрин и интеллектуальных творений ученых людей» [23, с. 36]. Ж. Ле Гофф в работе «Ментальности: двусмысленная история» 1974 г. отмечает, что цель историка ментальностей – различать в культуре модели поведения, «конденсирующие в себе определенные представления и выступающие как своего рода духовные полюса» [23, с. 43]. Р. Шартье в работе «Интеллектуальная история и история ментальностей» в качестве главной задачи истории ментальностей видит понимание способов «присвоения человеком или группой бытующих в обществе представлений и культурных форм» [23, с. 48]. П. Берк предлагает историкам ментальностей изучать категориальные, классификационные схемы, структурирующие различные картины мира [23, с. 59]. Социально-антропологическое направление в изучении ментальностей, как отмечалось выше, было заложено еще Дюркгеймом, который видел в ментальности основу групповой солидарности, коллективных представлений. Дальнейшее развитие эти идеи получили в работах немецкого медиевиста Р. Шпранделя [23, с. 52].
Классики отечественной этнологии и культурологии о менталитете
В отечественной этнологии понятие «менталитет» впервые использовал С.М. Широ-когоров в своем труде «Психоментальный комплекс тунгусов». В этой работе подробному анализу подверглись система верований, пантеон и институт шаманизма тунгусо-маньчжурских народов в сравнительной перспективе [50]. Главную особенность психоментального комплекса автор видит в тех элементах культуры, которые сформировались под влиянием адаптации к четырем средам: географической, культурной, психосоциальной и этнической. Эта концепция составляет часть теории этноса, выдвинутой ученым в 1923 г. в книге «Этнос» [46]. В более ранней работе «Опыт изучения основ шаманства у тунгусов» С.М. Широкогоров писал о шаманстве как «саморегулирующемся механизме психологической сферы людей» и «средстве самозащиты рода» [45].
А.Я. Гуревич описывает менталитет через самоидентификацию людей, характеризуя его как общий умственный инструментарий, который дает возможность определенным образом воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение и самих себя [15, с. 18]. Он первым определил менталитет как «сферу социально-культурных представлений, из которых складывается картина мира, латентно существующая в сознании каждого члена общества» [15, с. 19]. В книге «Категории средневековой культуры» А.Я. Гуревич выделил универсальные категории культуры, которые одновременно являются и определяющими категориями человеческого сознания: пространство и время, изменение, причина, судьба, число, отношение чувственного к сверхъчувственному, отдельных частей к целому. Он отмечал, что в совокупности они строят «модель мира», образующую «сетку координат», с помощью которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их сознании [16, с. 15–16]. А.Я. Гуревич подчеркивал, что внимание в этой книге направлено на изучение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек сознания, «психического инструментария», «духовной оснастки» людей средних веков, таким образом уточняя определение ментальности, сформулированное французскими исследователями.
Особенности менталитета на примере народов Евразии рассматривал Г.Д. Гачев. Он выделяет понятие «национальные образы мира», понимая под ним особые проекции единой мировой цивилизации, к которым он относит космо-психо-логос, означающий тип местной природы, национальный характер человека и национальный ум, находящиеся в общей системе взаимосвязанных представлений [13, с. 6–12].
П.С. Гуревич развивал психологическое и культурологическое определения понятия «ментальность» и писал, что ментальность восходит к бессознательным глубинам психики, отражая определенные слои мышления, позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы познания с полуосознанными культурными шифрами, характеризующими традиции, культуры, социальные структуры, бессознательное, природную и культурную среду обитания [17, с. 241–243, 245].
Современная отечественная этнология о ментальности
Представления о ментальности, разработанные французскими историками и классиками отечественными этнологии и культурологии, были восприняты современными исследователями, расширившими базу восприятия ментальности. В 1990-х гг. в отечественной гуманитарной науке произошел переворот в концептуальных подходах. Особое внимание стало уделяться проблемам культуры, методам ее анализа, широкий интерес вызвал феномен менталитета как самостоятельный предмет исследования. При рассмотрении проблем менталитета обязательно следует учитывать сложные периоды этнической истории России, в состав которой включались не только новые отдельные народы, но целые племенные объединения, обладающие своей культурной спецификой и менталитетом. Эти этносы имели тесные этнокультурные контакты с Монгольской империей, Тюркским каганатом, Сибирским ханством [4, с. 146–164; 35].
По сравнению с предыдущими годами расширяется спектр вопросов, связанных с изучением понятия «менталитет». Как и прежде, используются определения этого термина с точки зрения психологии, социологии, культурологии, однако появляются и общефилософские, этнографические, семиотические, информационные, исторические трактовки. Впервые анализ спектра определений понятия «менталитет» в этнологической науке предпринял Р.А. Додонов [19], но с тех пор прошло время и появились новые работы, которые мы и рассмотрим в настоящей статье.
Как и ранее, наиболее распространено психологическое определение менталитета. Р.А. Додонов, подводя итог анализа различных определений менталитета, приводит собственное его понимание как некоей особенности мировосприятия, соединяющей представителей той или иной человеческой общности, как проявление коллективной психики, обусловленное историческим развитием общности [19]. Р.Г. Шарипов также определяет менталитет этнокультурной общности с психологической точки зрения как некий социопсихологический инвариант коллективного бессознательного, образ мышления и поведения [42, с. 81]. Н.С. Южалина, посвятившая специальное исследование сущности и структуре менталитета, характеризует несколько типов определений менталитета, важным из которых является, по ее мнению, психологический. Она рассматривает менталитет как «склад ума, образ мыслей, форму мышления, орудие рефлексии, направленной на те или иные реалии окружающего мира, включающие элементы мировоззренческого характера и отражающие осознанное отношение человека или группы людей к естественным и общественным явлениям» [47, с. 4]. Исследовательница также пишет о менталитете как проекции. С ее точки зрения, менталитет «это неотрефлексированные впечатления, представления, образы, на основе которых человек воспринимает и истолковывает мир, это базовые представления человека о себе, природе, обществе, фундамент изначальных форм опыта» [47, с. 6–7]. К.К. Васильева ввела понятие онто-этнологического измерения менталитета, «содержащее сущность и природу душевно-духовной организации исторически сформировавшейся гомогенной социокультурной общности» [12].
К общефилософским относятся попытки определить менталитет через познавательные и мыслительные процессы. Э. Шурыгина видит в менталитете «этнический и познавательный код, мышление и чувствование» [19]. Е.Н. Бандурина рассматривает менталитет с социально-философской позиции как «рациональные и иррациональные мировоззренческие и социокультурные установки индивида или группы (общество, народ, этнос)» [2]. Э.А. Корнейчук трактует менталитет как «совокупность представлений, воззрений, “чувствований” общности людей определенной эпохи, географической области и социальной среды, которые влияют на исторические и социокультурные процессы» [28, с. 7]. По мнению С.В. Вальцева, менталитет как элемент коллективного сознания – это система этнических констант, которые являются той призмой, сквозь которую человек смотрит на мир. Главными константами менталитета, по мнению исследователя, являются локализация добра и зла, национальная идея, образ положительного национального героя [11, с. 1, 3]. По мнению Н.С. Южалиной, которая рассматривает менталитет с позиции философской и культурологической проблематики, он представляет собой «феномен, в сущности и структуре которого раскрывается специфика индивидуального и общественного сознания, механизмы и содержание познавательных процессов, особенности мировосприятия человека и природы, поведенческих стереотипов в мире культуры» [47, с. 6–7].
Многие исследователи в рамках культурологической проблематики для определения понятия «менталитет» обращаются к понятию картины мира. Л.В. Санжеева писала о перспективности использования понятия «менталитет» в изучении культуры, подчеркивая его междисциплинарный характер. Структура менталитета, как она считает, связана с понятиями модели мира, картины мира, образа мира [39, с. 185, 187]. При этом модель мира рассматривается ею как ментальная конструкция с комплексом устойчивых структурных единиц, обеспечивающих социальные связи и взаимодействие человека, общества, природы и культуры, которые отражают комплексность протекания исторических и современных социокультурных процессов в их диахронических и синхронических вариациях [39, с. 188]. Е.А. Норкина рассматривает роль менталитета в формировании картины мира этноса. Она определяет менталитет как интегральный признак людей, существующих в конкретной культурной среде, позволяющий осознать их эксклюзивное восприятие окружающего мира и раскрыть модель реагирования на его воздействие. Феномен менталитета описывается ею сквозь призму определенных взглядов, умонастроений и норм, которые вытекают из существующих в данном обществе традиций, знаний, верований [36, с. 476]. В рамках этой же проблематики дает определение менталитета и Л.Ю. Егле. Она пишет о менталитете как об «отражении специфики разных типов культур на эмоциональном и умственном уровне в их объяснении окружающего мира, понимании целей развития, основных ценностных ориентаций» [20, с. 358].
Важное направление изучения менталитета связано со знаковыми системами, семиотикой. П.К. Дашковский характеризовал категорию менталитета как особый культурно-исторический феномен, отражающий индивидуально (социально)-психологическую специфику и духовное состояние субъекта (личность, социальная группа, этнос) социально-исторического бытия. При этом бытие менталитета осуществляется через различные трансляционные механизмы в структурно-семиотических текстах культуры [18, с. 36–40]. Определяя пути исследования этого феномена, Е.Г. Зайцева отмечает взаимосвязь ментальности с ее актуализацией в знаковых системах и предлагает использовать методы социокультурного познания – интроспекцию, метод отраженной субъективности, трансперсональной психологии. «Метод эмпатии в единстве с методами герменевтики позволяет выйти за рамки чисто рационального осмысления ментальности, которая требует вчувствования, понимания и смысловых, и эмоциональных ее оттенков» [22, с. 176]. Н.Ф. Калина, Е.В. Черный, А.Д. Шоркин рассматривают менталитет как процесс вторичной перекодировки картины мира при помощи знаковых систем [24].
Некоторые ученые исследуют менталитет с позиции самоидентификации этносов. Согласно теории этнической процессуальности В.А. Тишкова, этническое самосознание и идентичность соотносятся с этнической ментальностью как часть и целое, вмещающее в качестве своих категорий не только «Другого», но также пространство и время, вещный мир, социальную организацию и другие значимые универсалии культуры [21, с. 67]. В.П. Любчак характеризовала менталитет как стабилизирую- щий фактор культурной идентичности, определяющий ее ценности. Она выделила два уровня в структуре менталитета – фундаментальный и социо-ситуативный, обусловленные соответственно базовыми или динамическими факторами в формировании и развитии менталитета [33, с. 211–214]. По мнению М.М. Бетильмер-заевой, ментальные особенности проявляются в индивидуальной психике и поведении людей как некие «константы», определяя основания идентичности того или иного человека, этноса, социума [7, с. 5].
Особое мнение выразил М.Ю. Шевяков в своей диссертации. Он полагает, что «менталитет можно рассматривать как наиболее константную, глубинную часть социальной информации. Эта часть наименее подвержена изменениям и детерминирована в большей степени традицией и культурой, чем наличными производственными отношениями и социальным строем» [44, с. 9].
Важное значение в поисках определения понятия «менталитет» исследователи отводят исторической памяти. В.П. Бех определил менталитет как «родовую память, основанную на синтезе правовой и социальной программы наследования» [19]. По мнению И.К. Пантина, менталитет – это «память народа о прошлом, психологическая доминанта поведения миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся “коду” в любых обстоятельствах, не исключая катастрофические» [37, с. 25–26]. Интересный подход к проблематике менталитета в ее связи с исторической памятью предложил социолог А.О. Бороноев. Он писал, что в ментальную систему входят «определенные образы мышления, коллективные представления, включающие архетипы социокультурной памяти, символы, ценности, традиции (установки) и чувства, сформировавшиеся в определенных условиях природной и социальной среды» [9, с. 8].
В 2020 г. под моим руководством был выигран грант РФФИ и Национального центра научных исследований Франции для реализации проекта «Менталитет тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов Восточной Сибири и юга Дальнего Востока как мировоззренческая основа и показатель особенностей системы жизнедеятельности», в котором принимали участие ученые из МАЭ РАН и РГПУ им А.И. Герцена. С.В. Березницкий обратился к изучению понятия «менталитет» в контексте жизнедеятель- ности народов амуро-сахалинского региона. Он определяет это понятие как «образ мышления, основанный на специфических архетипах мировоззрения, знания, верованиях, культах, традициях, ценностях, необходимых для развития жизнеобеспечивающих технологий как комплекса доминирующих потребностей» [5, с. 62]. В своих работах он также показал взаимосвязь природной и этнокультурной адаптации тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов с формированием их менталитета, сложный процесс создания этнокультурной модели ментального образа ландшафтов [6, с. 211–231]. Следует отметить, что подобные идеи высказывала и Н.С. Южалиной, полагающая, что «природа менталитета синкретична, в ней переплавляются все факторы человеческой жизнедеятельности» [47, с. 10].
Таким образом, проблемное поле понятия «менталитет» в современных исследованиях формируется через обращение к процессам познания, коллективного мышления, образу бессознательного, знаковым системам, картине мира, исторической памяти, социальной информации, идентичности этноса, способам жизнедеятельности, вещному миру.
Несмотря на разработанность тематики менталитета, его механизмов, структуры, границ, в научной литературе существует мнение о проблематичности использования этого понятия в связи с его двусмысленностью и расплывчатостью – с одной стороны, и богатством и многозначностью – с другой. Со временем разночтения в трактовке понятия не только не сглаживаются, но и увеличиваются. П. Рикер сформулировал концепцию репрезентации вместо понятия «менталитет», развив ее вслед за Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем и М. Вебером [38]. В 1990 г. Д. Ллойд писал о том, что понятию «менталитет» не хватает аналитической точности [49].
Выступая на Российско-Французском семинаре в мае 2021 г. французские исследователи Института национальных исследований Франции М.-Д. Эван, А. Дюмон и А. Лаври-лье отметили, что эти новые альтернативные термины неотчетливы и пестры. Однако они употребляют не термин «менталитет», как их предшественники, а термин «коллективные представления», который используется для описания мировоззрения изучаемых ими коренных народов. Этот подход, предлагающий замену понятия «менталитет» понятием «кол- лективные представления», обосновывается французской стороной тем, что устаревшее понятие «менталитет» способствует созданию разрыва, дистанцирующего изучаемые народы от нас самих, привнося предложение об альтернативном способе мышления. Тем самым современный подход приравнивается к психологизму Леви-Брюля, ошибочность которого в части предположения о прелогическом мышлении была отмечена еще классиками этнологии и современными исследователями, отмечавшими, тем не менее, и заслуги данного ученого, который впервые выдвинул идею наличия качественных межкультурных различий в мышлении в процессе его исторического развития [1, с. 584–585].
В последнее время в российской историографии наметилась тенденция к расширению трактовки понятия «менталитет». Е.А. Норкина подчеркивает значимость его употребления, отмечая, что «размытость этого понятия не способствует рефлексии, однако анализ данного явления в рамках философского знания выводит исследователя из когнитивного тупика» [36, с. 477]. Значительное количество отечественных публикаций посвящается этнокультурному менталитету народов мира [26; 27; 34, с. 45–48; 40; 43, с. 37; 47, с. 16; 48]. Следует отметить, что поддержка проекта «Менталитет тунгусо-маньчжуров и палеоазиатов Восточной Сибири и юга Дальнего Востока как мировоззренческая основа и показатель особенностей системы жизнедеятельности» в виде гранта РФФИ свидетельствует о признании значимости и продуктивности этого термина академическим сообществом.
Выводы
В заключение следует отметить, что понятие «менталитет» изначально рассматривалось в европейской гуманитаристике в рамках преимущественно психологического и социологического подхода. Школа «Анналов» продолжила исследование ментальности, придав ей антропологическое измерение. Представители исторической антропологии заметно расширили проблемное поле исследований ментальности, изучая психологическое, культурологическое, этническое измерения этого феномена. Классики российской этнологии и культурологии сделали главный акцент на адаптивных функциях психо-ментального комплекса этноса (С.М. Широкогоров), выделении универсаль- ных категорий культуры, образующих картину мира и определяющих категории человеческого сознания (А.Я. Гуревич), на сочетании бессознательных глубин психики и аналитического мышления в структурах менталитета (П.С. Гуревич). Главная особенность современного прочтения понятия «менталитет» состоит в его многозначности и богатстве форм, оно определяется через познавательные процессы, образы мышления, историческую память, семиотические системы, социальную информацию, картину мира, проективность и моделирование. В результате нашего обзора мы пришли к заключению о многоплановости и перспективности использования понятия «менталитет» в этнологии. Для российских исследований особое значение имеет изучение этнокультурного менталитета различных народов, населяющих Россию, выявление взаимовлияний различных менталитетов.
Список литературы Проблемы этнокультурного менталитета в этнологии
- Аристин П. Люсьен Леви-Брюль и проблема исторического развития мышления // Леви Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. С.578-586.
- Бандурина Е.Н. Социально-философский аспект понимания менталитета: автореф. дис. ... канд. филос. н. Ростов-на-Дону, 2007.
- Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур: учебное пособие. СПб.: РГГУ, 1999.
- Березницкий С.В. Об этногенезе тунгу-со-маньчжуров Дальнего Востока // Сибирь: древние этносы и их культуры. СПб.: МАЭ РАН, 1996. С. 146-164.
- Березницкий С.В. Соотношение менталитета с культами и жизнеобеспечивающими технологиями коренных народов амуро-саха-линского региона // Религиоведение. 2021. № 3. С. 61-69.
- Березницкий С.В. Этнокультурные проекции сакральных ландшафтов у коренных народов Амура и Сахалина // Этнография. 2021. № 4. С. 211-231.
- Бетильмерзаева М.М. Ментальность в контексте культуры (философско-культуроло-гический анализ): автореф. дис. ... д-ра филос. н. Ростов-на-Дону, 2011.
- Блок М. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука, 1986.
- Бороноев А.О. Сибирский менталитет. Содержание и актуальность исследования // Проблемы сибирской ментальности. СПб.: Астери-он, 2004. С. 26-33.
- Вальцев С.В. Является ли понятие «менталитет» синонимом понятия «менталь-ность»? // Проблемы современной науки и образования. 2012. № 3. С. 33-36.
- Вальцев С.В. Подходы к изучению структуры менталитета // Проблемы современной науки и образования. 2012. № 4. С. 64-67.
- Васильева К.К. Менталитет: онто-этноло-гическое измерение (на примере бурятского этноса): автореф. дис. ... канд. филос. н. М., 2003.
- Гачев Г. Национальные образы мира. Космос-психо-логос. М.: Прогресс, 1995.
- Гуревич А.Я. Послесловие. Жак Ле Гофф и новая историческая наука во Франции // Ле Гофф Ж.Л. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 530558.
- Гуревич А.Я. Изучение ментальностей: социальная история и поиски исторического синтеза // Советская этнография. 1988. № 6. С.16-25.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984.
- Гуревич П.С. Культурология: учебник. М.: Гардарики, 1999.
- Дашковский П.К. К вопросу о соотношении категорий «менталитет» и «ментальность»: историко-философский аспект // Философские дескрипты. Вып. 2. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002. С. 36-40.
- Додонов Р.А. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования. Запорожье: РА «Тандем-У», 1998.
- Егле Л.Ю. Влияние традиционной культуры на формирование менталитета // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4. С. 358361.
- Ерохина Е.А. Этническое самосознание: теоретический конструкт и ментальный феномен // Новые исследования Тувы. 2017. № 3. С.66-82.
- Зайцева Е.Г. Междисциплинарный подход к исследованию этнической ментальности // Известия МГТУ «МАМИ». Серия 6. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 174-180.
- История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.: РГГУ, 1996.
- Калинина Н.Ф., Черный Е.В., Шорки-на А.Д. Лики ментальности и поле политики. Киев: Агропромиздат, 1999.
- Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 2. Мифологическое мышление. М.; СПб.: Университетская книга, 2002.
- Каштанюк В.А. Особенности менталитета и мифологии коренных народов Севера в этнопедагогике // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. 2019. № 2. С. 78-86.
- Кожевников В.П. Ментальность российской цивилизации: история и методология исследования. М.: Гуманитарный институт, 1998.
- Корнейчук Э.А. Менталитет: истоки и исторические формы (социально-философский анализ ментальностей первых христиан): авто-реф. дис. ... канд. филос. н. Волгоград, 2001.
- Краткая философская энциклопедия. М.: Прогресс, 1994.
- Леви Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994.
- Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет. СПб.: Европейский Дом, 2002.
- Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.
- Любчак В.П. Исследование менталитета: двухуровневая структура // Молодой ученый. 2012. № 6. С. 211-214.
- Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Менталитет и национальный характер (о выборе метода исследования) // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 45-54.
- Народы Сибири в составе Государства Российского: очерки этнической истории. СПб.: Европейский Дом, 1999.
- Норкина Е.А. Роль менталитета в формировании картины мира этноса: философский аспект // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2018. № 4. С. 476-483.
- Пантин И.К. Российская ментальность: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 1994. № 1. С. 25-53.
- Рикер П. Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004.
- Санжеева Л.В. Менталитет как конструкция модели мира // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011.№ 5. Ч. 1. С. 185-188.
- Собольников В.В. Этнопсихологические особенности китайцев. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2001.
- Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.
- Шарипов Р.Г. Понятие менталитета этнокультурных общностей // Вестник Башкирского университета. 2000. № 2. С. 81-84.
- Шарипов Р.Г. Менталитет древних тюрков: философско-мировоззренческий очерк. Уфа: Гилем, 2001.
- Шевяков М.Ю. Менталитет: сущность и особенности функционирования: автореф. дис. ... канд. филос. н. Волгоград, 1994.
- Широкогоров С.М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. Владивосток, 1919.
- Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
- Южалина Н.С. Менталитет. Сущность и структура явления. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002.
- Якупов С.Ф. Менталитет и социальные институты как фактор прогресса: на примере китайской цивилизации // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 13. С. 33-40.
- Lloyd, G.E.R., 1990. Demystifying mentalities. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shirokogoroff, S.M., 1935. Psychomental complex of the Tungus. London: Kegan Paul.