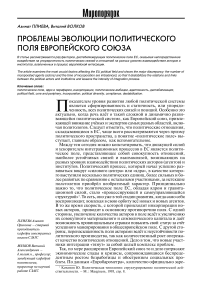Проблемы эволюции политического поля Европейского союза
Автор: Плиева Азинат Ориховна, Волков Виталий Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Миропорядок
Статья в выпуске: 4, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается ряд факторов, дестабилизирующих политическое поле ЕС, оказывая непосредственное воздействие на упорядоченность политических связей и отношений на разных уровнях взаимодействия акторов и институтов, вовлеченных в процесс европейской интеграции.
Политическое поле, ядро и периферия, инкорпорация, политические амбиции, адаптивность, дестабилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170164795
IDR: 170164795
Текст научной статьи Проблемы эволюции политического поля Европейского союза
П оказателем уровня развития любой политической системы является сформированность и статичность, или упорядоченность, всех политических связей и позиций. Особенно это актуально, когда речь идёт о такой сложной и динамично развивающейся политической системе, как Европейский союз, привлекающей внимание учёных и экспертов самых разных областей, включая политологов. Следует отметить, что политические отношения, складывающиеся в ЕС, чаще всего рассматриваются через призму политического пространства, а понятие «политическое поле» выступает, главным образом, как вспомогательное.
ПЛИЕВА Азинат Ориховна – старший преподаватель кафедры иностранных языков СЗАГС
ВОЛКОВ Виталий Александрович – д.полит.н., профессор; заведующий кафедрой политологии, проректор по научной работе СЗАГС
Между тем сегодня можно констатировать, что движущей силой и ускорителем интеграционных процессов в ЕС является политическое поле, представляющее собой совокупность отношений, наиболее устойчивых связей и взаимосвязей, возникающих на разных уровнях взаимодействия политических акторов (агентов) и институтов. Политический процесс, который начал успешно развиваться вокруг «силового центра» или «ядра», в качестве которого выступили несколько политических единиц, более сильных и более развитых по сравнению с остальными участниками, за истекшие полстолетия приобрёл необратимый характер. Принципиально важно то, что политическое поле ЕС, обладая ядром и гравитационной силой, стало «процессирующей и самоуправляющейся структурой»1. То есть, оно уже в той стадии развития, когда само себя воспроизводит, вовлекая в свою орбиту всё новых и новых агентов. В то же время скорость, с которой происходит инкорпорация новых акторов, приводит к основному противоречию поля. С одной стороны, увеличение количества акторов в поле ведёт к увеличению их совокупного материального и символического капитала и даёт возможность провинциальным странам повысить свой статус за счёт успешного маневрирования в общеевропейском поле. С другой стороны, перенасыщенность поля акторами ведёт к неустойчивости политического производства, так как количественный рост опережает качество политических отношений. Дело в том, что новые участники интеграции «тянут» за собой целый комплекс проблем.
Так, по мере расширения Европейский союз то и дело потрясают экономические спады и кризисы, сопровождающиеся беспрецедентным ростом безработицы и обострением социальных про блем. По д анным «Евробарометра», количество официально заре-
1 Качанов Ю. Политическая типология: структурирование политической действительности. – М. : Marginem, 1995, стр. 8.
гистрированных безработных в ЕС составляет 17,4 млн чел. Только среди молодёжи уровень безработицы к 2008 г. достиг 40%.
Такие страны, как Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, обеспечивая высокие социальные пособия и выплаты, в то же время проводят целенаправленную работу по обучению и переквалификации безработных, тем самым помогая им активизировать свои действия по поиску работы.
Более жёсткие меры по отношению к лицам, отклоняющим предложения социальных служб о предоставлении работы (в основном в сфере обслуживания и коммунальных службах), не приводят к желаемому результату. Так, реформы, проведённые в этой сфере в Германии, стоили канцлеру Герхарду Шрёдеру его поста. На всеобщих выборах избиратели отказали ему в новом мандате.
Правительство Франции выступило с предложением выплачивать разовое пособие в 1200 евро тем, кто устроится на работу, но лишать вообще пособий тех, кто три раза отклонит предложение социальных служб о работе. Результатом этих непопулярных мер правительства Франции стали беспорядки и погромы на улицах Парижа и его окрестностей осенью 2005 г., где ситуация по настоящее время остаётся взрывоопасной.
По прогнозам многих экспертов, ситуация резко осложнится с введением в действие нового закона о едином рынке услуг, что может привести к «социальному демпингу»1. Всё это усугубляется миграционными процессами, которые всячески поощряются политическим и экономическим менеджментом ЕС, даже в ущерб национальным интересам стран, входящих в Союз. Мигранты, с одной стороны, способствуют активизации конкуренции, что является одним из приоритетов в развитии Европейского союза. С другой стороны, стареющее население европейских стран нуждается в рабочей силе, и термин «позитивная дискриминация» используется уже не только в узких кругах, но озвучивается некоторыми первыми лицами стран ЕС (пресс-конференция Н. Саркози, 2008 г.).
Следующим немаловажным фактором, дестабилиз ирующим политическое поле
ЕС, являются разногласия между политическими акторами и протекционизм. Несмотря на то что все агенты политического поля ЕС объединены кардинальным интересом и выступают единым фронтом против глобальных угроз и мировой конкуренции, каждый из них имеет свои амбиции и ведёт борьбу за свои специфические интересы, которые не могли бы быть осуществлены в одиночку, или на это ушли бы многие годы.
Европейская интеграция позволила первой волне политических акторов укрепить свои позиции в поле и активно влиять на европейскую и мировую политику, то есть стать доминирующими игроками на общеевропейском поле. Особенно это касается Германии, Франции и Великобритании, отношение которых к Европейскому союзу как нельзя лучше характеризует высказывание Отто фон Бисмарка: «Я всегда слышал слово “Европа” от политиков, которые хотели бы получить от неё то, чего они не могли требовать от имени своих го-сударств»2.
По мере инкорпорации новых агентов в поле Европейского союза более очевидными становятся амбиции игроков. Многие из них начинают лоббировать интересы стран, когда-то входивших в сферу их влияния. Например, Австрия, пользуясь тем, что любая страна ЕС имеет право вето по вопросам расширения, заблокировала решение вопроса о переговорах с Турцией, если Еврокомиссия не согласится начать точно такие же консультации с Хорватией, обозначив таким образом свой статус в ЕС.
Особое место в политическом поле ЕС занимают скандинавские страны, наиболее активными из которых являются Финляндия и Швеция. Оба актора позиционируют себя как лидеры в Балтийском регионе и являются инициаторами проектов «Северное измерение» (Финляндия) и «Балтийско-нордическая зона безопасности» (Швеция).
Следует отметить, что все вышеназванные и многие другие проекты и инициативы, выдвигаемые отдельными политическими акторами ЕС, дают им возможность обновить свои позиции, повысить ставки и капиталы. Капиталы играют роль структур доминирования: без них как не- обходимых ресурсов не могут успешно осуществляться практики. Все коллективные агенты европейского политического поля являются держателями разного рода ресурсов, и это даёт им право активно вмешиваться практически во все сферы жизнедеятельности ЕС, т.е. вести свою игру.
В связи с тем, что распорядителем общего капитала выступает мегаколлектив-ный политический агент в лице ЕС (комиссары и генеральные директораты в Еврокомиссии, система комитологии Совета министров при Еврокомиссии, Европарламент и др. институты), он же определяет нормы и правила его распределения. Для поддержания общеполитической игры на поле ЕС и удержания многочисленных акторов в её рамках используется механизм предоставления или лишения определённых благ, то есть разного рода капиталов. Таким образом, создаётся некий баланс между интересами отдельных игроков, который, тем не менее, с каждым новым расширением становится всё сложнее удерживать. И дело здесь не только в социально-экономической проблематике.
Западные учёные называют Европейский союз «движущейся империей»1, имея в виду подвижность границ этого объединения. Несмотря на то что границы открыты, Европа представлена сегодня более ста нациями, народностями, этническими группами, стремящимися сохранить в неприкосновенности свои языки, традиции и культуру. Национализм как идеология остаётся составным элементом европейской политической культуры, и более того, он является мобилизующей силой в каждой европейской стране. Причём он имеет глубокие исторические корни, и именно этим объясняется тот факт, что многие современные претензии одних наций к другим зачастую основаны на фактах, якобы имевших место в доисторические времена.
Проявления национальной нетерпимости в Европе свидетельствуют о том, что усилия организаторов ЕС, направленные на ускоренное формирование коллективной наднациональной идентичности через общность политических институтов, а также перенос акцентов с историко-культурных оснований европейской идентичности на её политическую составляющую не всегда дают ожидаемые результаты.
По мнению профессора Ф. Шлезингера2, несформированность геокультурного пространства ЕС затрудняет становление европейской идентичности. Сама возможность и способность ЕС развиваться, расти, действовать и быть успешным зависит от того, смогут ли граждане ЕС активно поддерживать дух Союза, если субъективные интересы европейцев всё ещё находятся на национальном уровне, а для достижения культурной однородности необходимо время.
Принципиально важным вопросом, активно дискутирующимся в научных и кругах, является вопрос о том, какие же основополагающие критерии должны играть «скрепляющую» роль в общеевропейском поле.
Одним из главных критериев, на котором акцентируют внимание европейские учёные, является общность исторических корней, в основе которой лежит грекоримское наследие, а именно греческая философия, рационализм, римское право и христианство.
Следует отметить, что непосредственное внимание к проблеме формирования общеевропейской идентичности и воспитания граждан ЕС в духе европейства начинается одновременно с усилением политической интеграции в 90-е гг. Так, в Маастрихтском договоре официально закреплены полномочия политических институтов ЕС в проведении политики «европеизации» во всех областях, включая сферу образования и культуры. Как сказано в ст. 126 Договора о ЕС3, целью всех официальных институтов, общественных организаций, фондов ЕС является воспитание в гражданах общеевропейских ценностей.
Большое значение в этом процессе имеет Информационно-коммуникационная стратегия ЕС4, направленная на формирование европейской идентичности.
Однако, несмотря на все предпринимаемые усилия, желание европейских политических стратегов сформировать об- щеевропейскую идентичность ускоренными темпами наталкивается на серьёзное сопротивление со стороны граждан европейских стран.
Так, по данным «Евробарометра»1, около 50% граждан ЕС не поддерживают идею о том, что они имеют общие корни с другими народами. Особенно сильны такие настроения в северных странах – Дании, Голландии, Швеции, Люксембурге. 75% опрошенных в Швеции не изъявляют желания участвовать в общеевропейских делах; в Люксембурге 73% респондентов не связывают своего будущего с ЕС; в Германии 68% населения гордится тем, что они немцы, и не ассоциируют себя с европей-ством. Около 40% всего населения ЕС проявляют твёрдую уверенность в том, что они принадлежат конкретно к своей нации и считают, что у них мало общего с другими европейскими народами, а 62% населения ЕС не хочет вообще участвовать в общих европейских дебатах.
Представители европейской «глубинки» воспринимают «интеграцию», «евро-пейство» как возможность и необходимость для иммигрантов и иностранцев (в том числе из европейских стран) стать такими как голландцы, датчане, шведы и т.д.
То есть, позиция «пусть они делают всё как мы, а мы и так знаем, что делать» присутствует и озвучивается многими простыми гражданами ЕС.
Интеграция и европейство воспринимаются и используются ими как инструмент воздействия на иммигрантов, а не на самих себя. Так, англичане не хотят проникнуться духом французов, голландцы – духом датчан и т.д. Еврокомиссия называет эти явления остаточными явлениями (side effects) формирования общеевропейской идентичности, которые со временем будут преодолены, благодаря политике многокультурия и формирования общеевропейского форума для объединяющихся европейских стран.
На наднациональном уровне официаль- но провозглашённой концепцией преодоления межнациональных и межкультурных противоречий является политика многокультурия, выраженная в формулах: «единство в многообразии», «семья культур», «межкультурное обогащение». На национальных уровнях прилагаются усилия по ассимиляции всех инокультур в культуру титульной нации. Параллельно с этими тенденциями развивается процесс геттоизации, особенно среди иммигрантов, вынужденных жить изолированно, создавая собственную среду обитания. Соответственно, это создаёт особую напряжённость в общеевропейском пространстве и дестабилизирует его политическое поле.
Всё это в той или иной степени свидетельствует о том, что ускорителем проблем политического поля ЕС является постоянное увеличение количества инкорпорирующихся акторов, в связи с чем отношения между ними не успевают обрести устойчивый характер. Иначе говоря, нарушение баланса между пространственными параметрами и временем присвоения и усвоения политических, социальных и культурных связей ведёт к противоречию, которое затрагивает и само ядро данного политического поля, несмотря на то что создаётся иллюзия переноса всех проблем с центра на периферию.
Каждый политический актор, инкорпорирующийся в поле ЕС, постепенно создаёт вокруг себя так называемую зону безопасности и тянет за собой не только новые территории, но и круг собственных проблем, что, соответственно, требует от мегаколлективного агента поля ЕС мобилизации материальных и символических ресурсов. Таким образом, проблемы и противоречия множатся по мере расширения, в связи с чем ЕС на определённом этапе применяет тактику «рассчитанного допущения» и на время приостанавливает приём новых акторов. Однако это не снимает основного противоречия: сроки инкорпорации и количество участников не адекватны времени, необходимому для адаптации к новым условиям и оформлению европейской идентичности.