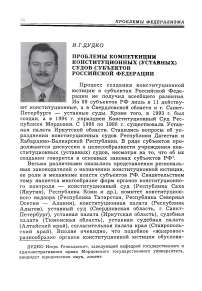Проблемы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
Автор: Дудко Игорь Геннадьевич
Журнал: Регионология @regionsar
Рубрика: Проблемы федерализма
Статья в выпуске: 2 (47), 2004 года.
Бесплатный доступ
Проведен сравнительный анализ компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, определены ключевые моменты их полномочий, дана оценка правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации по данной проблеме. .
Короткий адрес: https://sciup.org/147222886
IDR: 147222886
Текст научной статьи Проблемы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
Процесс создания конституционной юстиции в субъектах Российской Федерации не получил всеобщего развития. Из 89 субъектов РФ лишь в 11 действуют конституционные, а в Свердловской области и г. Санкт-
Петербурге — уставные суды. Кроме того, в 1993 г. был создан, а в 1994 г. упразднен Конституционный Суд Республики Мордовия. С 1996 по 1998 г. существовала Уставная палата Иркутской области. Ставились вопросы об упразднении конституционных судов Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. В ряде субъектов продолжаются дискуссии о целесообразности учреждения конституционных (уставных) судов, несмотря на то, что об их создании говорится в основных законах субъектов РФ1.
Весьма различными оказались представления региональных законодателей о назначении конституционной юстиции, ее роли в механизме власти субъектов РФ. Свидетельством тому является многообразие форм органов конституционного контроля — конституционный суд (Республика Саха (Якутия), Республика Коми и др.), комитет конституционного надзора (Республика Татарстан, Республика Северная Осетия — Алания), конституционная палата (Республика Адыгея), уставный суд (Свердловская область, г. Санкт-Петербург), уставная палата (Иркутская область), судебная палата (Тюменская область), уставная судебная палата (Алтайский край), согласительная палата края (Ставропольский край). Вполне очевидно, что подобное «жанровое» разнообрази е органов конституционной юстиции обуслови-
ло различия в их полномочиях, что, несомненно, сказалось на юридической природе принимаемых ими актов. Так, например, постановления Конституционной палаты Республики Адыгея имели обязательный характер и подлежали исполнению всеми субъектами на территории республики, а заключения Уставной палаты Иркутской области носили рекомендательный характер2
Асинхронное и противоречивое развитие конституционной юстиции в субъектах РФ объясняется различным образом: диспозитивностью нормы Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» (ч. 1 ст. 27), определяющей право, но не обязанность учреждать конституционный (уставный) суд субъекта РФ, материальными, финансовыми, кадровыми проблемами, «торможением» процесса федеральным и региональным законодателями, в том числе по причинам политического характера, и др. Однако опыт создания и деятельности региональной конституционной юстиции обнаружил две сугубо юридические проблемы, которые во многом определяют ход развития судебной власти субъектов Российской Федерации и, на наш взгляд, существенно влияют на юридическую характеристику актов конституционных (уставных) судов.
Функциональное назначение органов региональной конституционной юстиции, при всем различии их статусов, состоит в защите и адекватной интерпретации соответствующей конституции (устава). Однако такая деятельность не может (не должна) осуществляться вне соблюдения условия соответствия каждой конституции (устава) положениям Конституции РФ, ибо в противном случае ставится под сомнение возможность существования единства конституционного пространства страны. «Очевидно, — пишет А.Ф.Малый, — что введению нового института уставного контроля должна предшествовать работа по приведению устава области в соответствие с требованиями, которым должен отвечать основной закон. Это должен быть хорошо юридически проработанный, внутренне согласованный, соответствующий Конституции РФ правовой документ»3
Между тем еще в 1994 г. на парламентских слушаниях на тему «О проблемах соответствия конституций республик, уставов краев, областей, городов федерального значе- ния, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации» было признано, что конституции и уставы субъектов РФ по ряду основных положений (закрепление прав и свобод человека, определение статуса субъекта, установление системы государственной власти) существенно противоречат Конституции Российской Федерации4 Многочисленные факты несоответствия положений основных законов субъектов федерации нормам Конституции РФ описаны в различных сравнительно-правовых исследованиях5
Осуществленный в рамках проекта «Конституционное обустройство России: общественная экспертиза» анализ конституций и уставов выявил значительный спектр противоречий положениям Конституции РФ. Следует подчеркнуть, что наиболее существенные были обнаружены в конституциях тех республик, которые одними из первых создавали органы конституционной юстиции (республики Саха (Якутия), Татарстан, Башкортостан, Тыва)6 Такая ситуация сохранялась вплоть до 2000 г. Президентом РФ было отмечено, что приведение законодательства субъектов РФ и актов местного самоуправления в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством является стратегической задачей внутригосударственной политики7. Вслед за этим Прокуратурой России и Министерством юстиции РФ была развернута масштабная кампания по «ревизии» региональных правовых актов. Так, уже 1 марта 2001 г. Генеральная прокуратура РФ информировала, что в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством были приведены 64 конституции и устава субъектов Российской Федерации8. Заметим, что реестр официально признанных нарушений Конституции РФ включает не только положения о «суверенитете» республик, но и текстуально-юридические ограничения прав и свобод человека и гражданина. Представляется, что признание «несовершенства» конституции (устава) служит для регионального законодателя весомым сдерживающим фактором в вопросе учреждения конституционной юстиции.
И все же проблема заключается не в «широте» или «глубине» юридико-текстуальных нарушений Конституции РФ, а в новом для российской правовой системы явлении, кото- рое возникло в связи с деятельностью в субъектах РФ конституционных (уставных) судов. При рассмотрении вопросов создания конституционных (уставных) судов И.А.Умнова отмечает: «Важно, чтобы эти акты (конституции и уставы субъектов РФ — И.Д.), их отдельные положения защищались в случаях их соответствия федеральной Конституции, иначе их правовая защита становится неконституционной»9. По мнению В.А.Кряжкова, если положения конституций (уставов) противоречат Конституции РФ, то «конституционные (уставные) суды объективно становятся органами, формирующими ложные стереотипы поведения, опасные для конституционного строя Российской Федерации»10. Более оптимистичен М.А.Митюков, полагающий, что с приведением основных законов субъектов в соответствие с Конституцией РФ роль конституционных (уставных) судов станет более значимой11
В то же время деятельность конституционных судов республик изобилует весьма содержательными примерами «неконституционной практики». К их числу относятся: во-первых, признание правомерности ограничения нормативными актами субъекта РФ: а) свободы передвижения, выбора места жительства и передвижения (постановления Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) от 14 мая 1993 г. и 8 апреля 1997 г.; постановление Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 1994 г.); б) избирательных прав (постановление Конституционного Суда Республики Бурятия от 7 февраля 1997 г., постановление Конституционного Суда Республики Башкортостан от 16 июля 1998 г.); в) гарантий независимости судей (постановление Конституционного Суда Республики Дагестан от 22 июля 1993 г.); во-вторых, признание допустимым введение дополнительных налогов, кроме тех, которые установлены федеральным законодательством (постановление Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) от 7 июня 1996 г.); в-третьих, приостановление действия на территории субъекта РФ законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации (постановления Конституционного Суда Республики Башкортостан от 7 октября 1997 г. и 5 февраля 1998 г., постановление Конституционной палаты Республики Адыгея от 28 марта 1998 г.).
Вне всякого сомнения, положения указанных выше решений конституционных судов субъектов РФ значительно деформировали не только российскую правовую систему, но и правовое сознание региональных законодателей и значительного круга правопримененителей, которым предложено иное понимание «законности», в некоторых случаях резко расходящееся с конституционностью. Вынесение конституционным судом решения на основе положений конституции субъекта федерации, не соответствующей Конституции РФ и (или) федеральному закону, влечет за собой ремультипликацию юридических ошибок. Безусловно, что одобрение нормативных ограничений прав человека, а также установки на «выборочное» применение федеральных нормативных правовых актов не могли осуществиться на практике «безболезненно» и породили юридические конфликты. К сожалению, «юстициарная ревизия» как попытка переоценки и пересмотра положений Конституции Российской Федерации и федерального законодательства обретает в деятельности конституционных судов субъектов РФ новые формы12.
Другая проблема, не получившая, на наш взгляд, адекватного разрешения, заключается в установлении завершенной компетенции конституционных (уставных) судов. Она по своим последствиям, несомненно, влияет на юридическую характеристику актов данных органов.
Исходные положения, закрепляющие полномочия органов конституционной юстиции субъектов РФ, определены Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», ч. 1 ст. 27 устанавливает: «Конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации»13. Казалось бы, данные положения, закрепляя предметную подсудность конституционных (уставных) судов, устанавливают ее ис-
Проблемы компетенции конституционных судов субъектов РФ 55 черпывающим образом; отсутствие термина «иные» позволяет утверждать о закрытом перечне полномочий.
Однако сложилось мнение о «расширительном» понимании данной нормы, которое в целом сводится к тому, что федеральным конституционным законом устанавливается не императивная, а рекомендуемая компетенция конституционного (уставного) суда субъекта РФ. Так, по мнению Т.Я.Хабриевой, в указанной норме определены основные направления деятельности судов. Субъекты Российской Федерации вправе расширять эту компетенцию, но с учетом разграничения предметов ведения и полномочий, а также назначения и природы конституционных (уставных) судов14 М.А.Митюков полагает, что определенная федеральным конституционным законом компетенция не ограничивает объем полномочий конституционного (уставного) суда, который вправе рассматривать иные вопросы, если они вытекают из исключительных предметов ведения субъекта федерации и не конкурируют с полномочиями Конституционного Суда РФ15. С точки зрения В.А.Кряжкова и Л.В.Ла-зарева в п. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» изложены лишь основы компетенции конституционных (уставных) судов16
Полагаем, что данная позиция сформировалась не без влияния сложившейся в субъектах федерации практики. Конституции (уставы), законы субъектов РФ закрепили более широкие по сравнению с федеральным законом полномочия конституционных (уставных) судов. К ним относятся полномочие по проверке конституционности не только нормативных, но и иных правовых актов органов государственной власти, а также договоров субъектов федерации; рассмотрение споров о компетенции органов публичной власти субъектов РФ; полномочие на осуществление проверок по жалобам на нарушения конституционных прав и свобод граждан; участие в процедуре досрочного прекращения полномочий высших должностных лиц республик; полномочие по оценке действий и решений общественных объединений, политических партий.
Однако даже такое «жанровое» разнообразие полномочий предлагается дополнить. По мнению М.А.Митюкова, органы региональной конституционной юстиции должны осуществлять контроль за решением законодательного органа о назначении референдума или проверке соблюдения конституционных требований для назначения референдума субъекта РФ17 В.А.Кряжков считает необходимым наделить конституционные (уставные) суды правом проверки федеральных законов18. Ж.И.Овсепян, разделяя эту идею, уточняет, «однако это должна быть проверка на соответствие не конституции (уставу) субъекта РФ, а на соответствие федеральной Конституции»18 Вместе с тем были высказаны обоснованные сомнения в необходимости расширения компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Различными оказались и мнения судей региональных органов конституционной юстиции20.
Дискуссия получила развитие в запросе, обращенном в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовая позиция органа конституционного правосудия России нашла выражение в определении от 6 марта 2003 г. Наиболее существенным моментом решения, на наш взгляд, является следующий: «Дела, отнесенные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, конституционным (уставным) судам субъектов Российской Федерации как судам, входящим в судебную систему Российской Федерации, неподведомственны. Предоставление же им полномочий вне указанных пределов не противоречит Конституции Российской Федерации, если эти полномочия соответствуют юридической природе и предназначению данных судов в качестве судебных органов конституционного (уставного) контроля и касаются вопросов, относящихся к ведению субъектов Российской Федерации в силу ст. 73 Конституции Российской Федерации. Следовательно, содержащийся в ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» перечень вопросов, для рассмотрения которых субъекты Российской Федерации могут создавать конституционные (уставные) суды, нельзя считать исчерпывающим. Оспариваемая заявителем норма, оставляя на усмотрение субъекта Российской Федерации решение вопроса о создании конституционного (уставного) суда, носит не императивный, а диспозитивный характер и одновременно ориен- тирует на то, какие основные вопросы могут рассматриваться таким судом в случае его создания»21
На первый взгляд, Конституционный Суд РФ легитимировал сложившуюся практику «расширяющейся компетенции» конституционных (уставных) судов. Более того, не обнаружил в ч. 1 ст. 27 Конституционного закона требования о единообразии перечня полномочий, тем самым признал правомерным «вариативность» (разнообразие) полномочий органов региональной конституционной юстиции. Однако, и это, пожалуй, наиболее существенно, Конституционный Суд определил пределы юрисдикции данных органов. С одной стороны, они должны выстраиваться по остаточному принципу: вне полномочий Конституционного Суда РФ, полномочий судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также вне предметов ведения, закрепляемых ст. 71 и 72 Конституции РФ, с другой, определяя компетенцию конституционных (уставных) судов, региональный законодатель обязан учитывать юридическую природу и предназначение данных судов.
Итак, с одной стороны, «остаточная», но хотя бы «определенная» регламентация. С другой — регламентация «формально неопределенная», явно отражающая доктринальную позицию суда. Если же с позиции Конституционного Суда РФ выстроить общую конструкцию полномочий конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, то следует признать, что таковая по сравнению с действующей должна претерпеть существенные изменения в плане «сужения» судебной деятельности. Так, в частности, вне их компетенции остается контроль за конституционностью договоров субъектов РФ, споры о компетенции между высшими органами государственной власти субъекта РФ; контроль за конституционностью деятельности политических партий, общественных объединений. Исключается также проверка конституционности закона по жалобам о нарушении конституционных прав и свобод граждан. Однозначно вне полномочий органов региональной конституционной юстиции остается и проверка конституционности федеральных законов.
И все же компетенция конституционных (уставных) судов не получила должной «завершенности». Это порождает, на наш взгляд, весьма существенную проблему «обя- зательности» и «окончательности» решений данных судов. Пункт 4 ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» предусматривает, что решения, принятые вне пределов полномочий Конституционных (уставных) судов, могут быть «пересмотрены» другим судом (судом общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ), разумеется не в плане инстанционности, а с позиций должной подведомственности. Однако данная ситуация ставит вопрос о создании единой системы конституционных судов в России во главе с Конституционным Судом РФ.
Список литературы Проблемы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации
- Овсепян Ж.И. Становление конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации (1990-2000 гг.). М., 2001.
- О Конституционном Суде Республики Адыгея: Конституционный закон Республики Адыгея от 17 июня 1996 г. № 11. Ст. 77//Ведомости Государственного Совета -Хасэ Республики Адыгея. 1996. № 6;
- Об Уставной палате: Закон Иркутской области от 15 марта 1996 г. № 15-03 (ст. 24)//Восточно-Сибирская правда. 1996. 9 апр.
- Малый А.Ф. Органы государственной власти области: проблемы организации. Архангельск, 1999. С. 221.
- Собрание законодательства РФ. 1994. № 14. Ст. 1593.