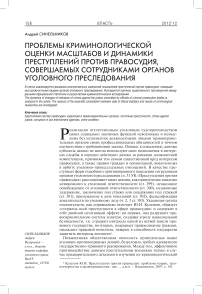Проблемы криминологической оценки масштабов и динамики преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками органов уголовного преследования
Автор: Синельников Андрей Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется динамика количественных изменений показателей преступлений против правосудия, совершаемых должностными лицами органов уголовного преследования. Исследуются причины существенного противоречия между данными официальной статистики и результатами криминологических исследований.
Преступления против правосудия, коррупция в правоохранительных органах, состояние преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/170166215
IDR: 170166215
Текст научной статьи Проблемы криминологической оценки масштабов и динамики преступлений против правосудия, совершаемых сотрудниками органов уголовного преследования
Р еализация отечественным уголовным судопроизводством своих социально значимых функций невозможна и немыслима без исполнения должностными лицами правоохранительных органов своих профессиональных обязанностей в точном соответствии с требованиями закона. Однако, к сожалению, данные субъекты далеко не всегда используют свои полномочия в интересах службы и нередко действуют далеко за рамками должностной компетенции, причиняя тем самым существенный вред интересам правосудия, а также правам граждан и организаций, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальных отношений. В качестве преступных форм подобного противоправного поведения сотрудников органов уголовного преследования гл. 31 УК «Преступления против правосудия» рассматривает такие деяния, как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300), незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301), принуждение к даче показаний (ст. 302), фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 2, 3 ст. 303). Указанная группа посягательств, как справедливо отмечает Ю.И. Кулешов, образует «стержень всей преступности в сфере правосудия» и содержит в себе двойной негативный эффект: во-первых, она разрушает правоохранительную систему изнутри, создавая угрозу национальной безопасности, т.к. страдают интересы одной из ветвей власти правового государства, во-вторых, подрывает правосознание граждан, насаждает правовой нигилизм, неверие в способность государства защитить интересы личности1.
Повышенная общественная опасность приведенных выше уголовно-противоправных деяний, безусловно, требует адекватного государственно-правового реагирования. Между тем, эффективное противодействие данным преступлениям возможно только в случае предварительного детального изучения их криминологической характеристики, в т.ч. установления масштабов распространенности, динамики, тенденцийразвития. Однако, ксожалению, по признанию некоторых ученых, «отече-ственной криминологией преступления против правосудия практически не иссле дованы с точки зрения их количественно качественных показателей»1. Встречаются и более категоричные суждения. Так, С.Г Ольков полагает, что криминологи вообще предали забвению «преступления против правосудия, в особенности свя занные с деятельностью субъектов сферы обеспечения законности»2. Учитывая это, представляет научный интерес для иссле дования проблематика установления дей ствительных масштабов распространения преступлений против правосудия, совер шаемых должностными лицами органов уголовного преследования, их динамики и тенденций в России.
В связи с изложенным обратимся к ана-лизу отечественной официальной стати стики о состоянии преступности в аспекте соответствующих видов посягательств3. При ознакомлении с этими сведениями сразу бросается в глаза крайне низкий уровень зарегистрированной части пре ступных деяний рассматриваемой катего рии и труднообъяснимая хаотичность их динамики.
Как видно из приводимых данных о количественных изменениях исследуемых уголовно - противоправных деяний, самым распространенным преступлением среди них выступает фальсификация доказа тельств. Наибольшее число зарегистриро-ванных фактов совершения данного пре ступного деяния было отмечено в 2006 г. и составило всего 494. Причем до этого динамика числа этих посягательств была последовательно восходящей на протяже нии 10 лет с весьма внушительными тем -пами прироста. Однако уже к 2010 г. число преступлений, предусмотренных ст. 303 УК, в нарушение ранее сформировав шейся тенденции и исходных криминоло гических закономерностей, стремительно сократилось за четыре года почти вдвое — до 254.
Весьма незначительно число нашедших отражение в отчетности фактов незакон ного привлечения к уголовной ответствен -ности и неправомерного освобождения от нее. Так, число преступлений, предусмо-тренных ст. 299 УК, за 14 лет с момента вступления в силу УК РФ колебалось в пределах от 3 до 10 в год, а аналогичный показатель за тот же период в отношении деяний, ответственность за которые регла ментирована в ст. 300 УК, варьировался от 3 до 18. Еще более скромными являются достижения по борьбе с данными престу плениями в 2011 г. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году по ст. 299 УК было осуждено одно должностное лицо, а по ст. 300 УК — два4. Приведенные показатели тем более удивительны, что, по данным криминологических исследова ний, подавляющее большинство взяток в сфере правоохранительной деятельности дается именно за непринятие должных мер по привлечению виновных к уголов ной ответственности5.
Парадоксально выглядит динамика числа таких преступлений, как незакон ное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, а также при нуждение к даче показаний, являющихся, согласно сведениям социологических опросов, одними из самых распространен ных преступлений, совершаемых сотруд никами правоохранительных органов6. Так, если число зарегистрированных фак тов совершения посягательства, предусмо-тренного ст. 301 УК, в 1998 г. было равно 73, то спустя 11 лет, в 2009 г., не было выявлено ни одного подобного случая, а через год, в 2010 г., зафиксировано лишь 2 данных уголовно-противоправных деяния. В прошедшем же 2011 г. за указанное преступле-ние вообще не было осуждено ни одного лица1. Получается, данное преступление практически перестало совершаться, что, конечно, не соответствует действитель-ности и не может быть воспринято иначе как нонсенс. Сходная ситуация сложилась с абсолютными показателями преступных посягательств, предусмотренных ст. 302 УК, число которых в 1997 г. достигало 40, а к 2010 г. удивительным образом снизилось до одного - единственного факта.
Такое положение дел с официальными сведениями, очевидно, объясняется крайне высоким уровнем латентности (как искусственной, так и естественной) исследуемых противоправных деяний, на который нередко указывают ученые, изу чающие уголовно правовые или крими нологические аспекты противодействия преступлениям должностных лиц органов уголовной юстиции2.
В связи с этим заслуживают внима-ния итоги исследования, проведенного К.Р Идрисовым с применением метода экспертных оценок, согласно которому латентность преступлений, предусмо тренных ст. 299—303 УК, составляет около 90%3. К аналогичному выводу приходит Ю. Синельщиков4. По мнению другой группы исследователей (А.Г Заболоцкая, А.П. Алексеева, Е.Е. Колбасина), указан -ная величина может иметь еще большее значение. Так, в отношении «профес-сиональных» преступлений сотрудников органов внутренних дел данные авторы отмечают: «Если в целом по всей преступ-ности (по некоторым оценкам) количе ство латентных преступлений в 3—5 раз больше официально зарегистрированных, то по рассматриваемым преступлениям этот показатель еще выше»5.
Причины столь высокого уровня латент-ности, думается, главным образом свя заны со спецификой круга субъектов рас сматриваемой категории посягательств на правосудие и сферы, в которой ими осу ществляется профессиональная деятель ность. Хотя вместе с тем нельзя умалять и роль такого нередко упоминаемого в юри дической литературе обстоятельства, как несовершенство норм уголовного закона, регламентирующих ответственность за рассматриваемые преступления6. Однако все же основные факторы латентности исследуемой группы посягательств, дума ется, заключаются в следующем.
Во первых, криминологически зна чимой особенностью системы службы в органах уголовного преследования явля ется то, что «начальствующий состав несет ответственность за противоправ ное поведение подчиненных, порой довольно строгую»7. Отсюда и скрытое противодействие отдельных руководите лей органов правопорядка привлечению своих сотрудников к уголовной ответ ственности. Известно, что виновных лиц, преступивших уголовный закон, нередко увольняют якобы по собственному жела нию, чтобы не допустить распростране ния информации о методах работы в том или ином подразделении правоохрани тельного органа8. Расчет на «профессио-нальное алиби», поддержку либо лояль ность руководства, позволяющие избе жать ответственности, является одним из наиболее существенных обстоятельств, влекущих формирование субъективной готовности к совершению исследуемых посягательств.
Во вторых, труднопреодолимым пре пятствием в формировании доказатель ственной базы против виновных долж ностных лиц органов уголовной юстиции выступает так называемая корпоративная солидарность среди сослуживцев, которые в силу сложившейся профессиональной деформации психологии покрывают своих коллег, допустивших нарушения закона. В итоге попытки выяснить обстоятельства совершения преступления и выявить его свидетелей натыкаются на «стену молчания». При этом сами виновные лица, обладая в силу занимаемых должностей знаниями в области юриспруденции, криминалистики, психологии, а также обширными служебными связями в правоохранительной системе, опираясь на указанную помощь сослуживцев, имеют прекрасные возможности обеспечить успешное сокрытие и устранение следов преступления.
В-третьих, потерпевшие от исследуемой группы посягательств часто вообще не обращаются в органы прокуратуры или отделы собственной безопасности, с одной стороны, опасаясь мести за такие действия со стороны виновных сотрудников органов уголовного преследования, с другой – не веря в возможность объективного расследования противоправных дей- ствий указанных лиц и их справедливого наказания.
Резюмируя изложенное, важно подчеркнуть, что эффективное противодействие преступлениям против правосудия, совершаемым сотрудниками правоохранительных органов, невозможно без устранения или хотя бы существенного снижения степени негативного влияния приведенных факторов. Для этого требуется проявление твердой государственной воли в действительном реформировании правоохранительной системы с тем, чтобы она начала работать не для удовлетворения ведомственных интересов, а для защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. Тогда можно ожидать и формирования приемлемого уровня доверия к данной системе со стороны населения. В противном случае мы будет продолжать оставаться очевидцами фиктивного благополучия официальной статистики при фактическом возрастании масштабов указанных посягательств.
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 12-03-00656.