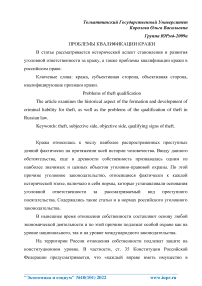Проблемы квалификации кражи
Автор: Королева О.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 10-1 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается исторический аспект становления и развития уголовной ответственности за кражу, а также проблемы квалификации кражи в российском праве.
Кража, субъективная сторона, объективная сторона, квалифицирующие признаки кражи
Короткий адрес: https://sciup.org/140300248
IDR: 140300248
Текст научной статьи Проблемы квалификации кражи
Кража относилась к числу наиболее распространенных преступных деяний фактически на протяжении всей истории человечества. Ввиду данного обстоятельства, еще в древности собственность признавалась одним из наиболее значимых и ценных объектов уголовно-правовой охраны. По этой причине уголовное законодательство, относящиеся фактически к каждой исторической эпохе, включало в себя нормы, которые устанавливали основания уголовной ответственности за рассматриваемый вид преступного посягательства. Содержались такие статьи и в нормах российского уголовного законодательства.
В нынешнее время отношения собственности составляют основу любой экономической деятельности и по этой причине подлежат особой охране как на уровне национального, так и на уровне международного законодательства.
На территории России отношения собственности подлежат защите на конституционном уровне. В частности, ст. 35 Конституции Российской Федерации предусматривается, что «каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» и что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».
По мнению историков, кража относится к числу древнейших преступлений, объектом посягательств которых является чужое имущество. Поэтому принципы уголовной ответственности за данный вид имущественных преступлений стали формироваться фактически одновременно с зарождением государственности. В первобытном же обществе ответственность за кражу регулировалась протонормами, которые допускали в указанном случае применение принципа возмездия. В зависимости от размера причиненного ущерба возмездие допускало возможность применения различных видов мести, включая убийство виновного или разграбление общины, в рамках которой он проживал [2, с. 55].
В более поздние времена в практике закрепился такой способ восстановления справедливости, как причинение вреда виновному, который эквивалентен ущербу, причиненному его деянием. Указанные принципы впоследствии стали основой древнеримского права, законодательства Византии, а также и древнерусского законодательства [17, с. 16]. Первые упоминания об ответственности за кражу содержатся в нормах международных договоров, заключенных между Древнерусским государством и Византией.
Ответственность за совершение кражи более подробным образом была регламентирована в Русской Правде. В указанный период кража получила название «татьба». Следует иметь ввиду, что в указанный период кража считалась более общественно опасным преступлением, чем грабеж и разбой, так как потерпевший не имел возможности оказать преступнику сопротивление. Более того, кража подвергалась более суровому общественному порицанию, нежели открытые виды хищений [24, с. 40].
В тексте Русской Правды были выделены такие виды краж, как кража из закрытых помещений, конокрадство, кража холопа, кража пчел и меда из бортных деревьев, кража бобров, кража морских и речных судов, кража сена 2
или дров и т.д. Наиболее строгий вид ответственности в виде штрафа предусматривался за кражу имущества, принадлежащего князю. В случае, если убийство вора на месте происшествия было совершено ночью, то за указанное деяние не предусматривалась уголовная ответственность. Оно квалифицировалось в качестве самообороны. В нормах Русской Правды за совершение конокрадства устанавливалась высшая мера наказания - поток и разграбление [24, с. 45].
В нормах Псковской судной грамоты 1467 г. различались такие виды краж, как простая и квалифицированная. К числу простых краж были отнесены такие, как кража из закрытого помещения, из саней, с воза, из лодки, зерна из ямы, кража скота, сена, совершенная в первый или второй раз. В свою очередь, к числу квалифицированных краж были отнесены такие, как кража, совершенная в третий раз, конокрадство, а также «кримская» («кромская») татьба [26, с. 148].
Согласно Судебнику 1497 г., который также выделял простые и квалифицированные виды краж, к числу последних были отнесены такие, как кража церковная, головная, повторная кража, а также первая кража с поличным, совершенная «ведомым лихим человеком». Остальные же виды краж рассматривались в качестве простых. При этом, стоимость похищенного имущества при квалификации деяния не имела значения [25, с. 154].
В Судебнике 1550 г. были существенным образом расширены меры наказания за совершение различных видов краж по сравнению с Судебником 1497 г. Помимо указанных выше мер, виновный подлежал выдаче на «крепкую поруку», под которой подразумевалась его передача под поручительство лица, который имел положительную репутацию и устойчивое положение в обществе. До момента передачи под поручительство виновный содержался в тюрьме. Помимо этого, если у виновного отсутствовали денежные средства для возмещения причиненного им ущерба, то в отношении него применяли выдачу «головою на правеж до искупа». Указанная мера заключалась в том, что в течение определенного периода времени виновный выставлялся перед зданием суда или приказа, в котором он был осужден, и подвергался избиению батогами по ногам. Данному наказанию виновный подвергался ежедневно, за исключением праздников. Если данному наказанию подвергали феодала, то он вправе был отправить холопа на его отбытие.
Если кража была совершена виновным впервые, то он должен был быть подвергнут пытке. А в качестве меры наказания за кражу, совершенную впервые, была предусмотрена торговая казнь, отрезание левого уха, а также заключение в тюрьму сроком на два года. Имущество же виновного переходило в собственность потерпевшего. За совершение повторной кражи срок тюремного заключения увеличивался до четырех лет. За совершение третьей кражи предусматривалось наказание в виде смертной казни. Помимо этого, законом предусматривалась также и уголовная ответственность для лиц, которые помогали преступнику скрыться [18, с. 164].
В качестве наказания за совершение простой кражи предусматривались побои шпицрутенами с прогоном виновного через строй шесть раз. За совершение повторной кражи данное наказание увеличивалось в два раза. За совершение третьей кражи виновный подвергался ссылке на каторгу, а предварительно ему отрезали нос и уши. Смертная казнь была предусмотрена за все квалифицированные виды краж, а также за простую кражу, совершенную в четвертый раз.
В тоже время, законодателем были предусмотрены обстоятельства, при наличии которых наказание за кражу могло быть смягчено. В частности, к такого рода обстоятельствам относилась «голодная нужда». В свою очередь, к несовершеннолетним и умалишенным, совершившим кражи, уголовные наказания не применялись.
После Октябрьской революции 1917. нормативные правовые акты Российской империи были признаны утратившими силу. По этой причине в течение достаточно длительного времени не существовало единого закона, который бы содержал единую систему преступлений против собственности.
Такая ситуация длилась вплоть до принятия первого советского уголовного кодекса.
Первая попытка установления уголовной ответственности за кражу новой властью связана с принятием декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 1 июня 1921 г. «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующими хищениям». В рамках данного акта был закреплен перечень таких деяний с закреплением мер уголовной ответственности за их совершение [21, с. 92]. За совершение кражи государственной собственности без отягчающих обстоятельств предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет. При наличии же отягчающих обстоятельств предусматривалась смертная казнь в виде расстрела.
УК РСФСР 1960 г. дифференцировал уголовную ответственность за кражи социалистической собственности и за кражи личного имущества граждан. Так, уголовная ответственность за кражу социалистической собственности была предусмотрена гл. 2 УК РСФСР 1960 г. В свою очередь, уголовная ответственность за кражу личного имущества граждан была предусмотрена гл. 5 УК РСФСР 1960 г. При этом, за кражу социалистической собственности были предусмотрены более строгие наказания, нежели за кражу личного имущества граждан. Помимо этого, грабеж без применения насильственных действий был вновь выделен законодателем в самостоятельный состав преступления. Соответственно, под кражей стало вновь подразумеваться только тайное хищение чужого имущества.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении материальной ответственности за хищения государственного и общественного имущества» от 16 января 1965 года в УК РСФСР была смягчена уголовная ответственность за кражу социалистической собственности. Указанным нормативным актом была установлена уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества в небольших размерах, под котором подразумевалась кража, размер ущерба от которой составлял от 50 до 5
-
100 рублей и которая была совершена впервые. Данное преступление предусматривало наказание в виде штрафа, размер которого составлял трехкратную стоимость украденного имущества [20, с. 82].
Как отмечает Н.А. Лопашенко: «При совершении преступлений, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации [22], в результате хищений и других корыстных посягательств на собственность страдает экономическая компонента собственности - присвоение имущества собственнику, хотя оно, как правило, физических изменений не претерпевает. Собственник лишается в связи с этим и юридической составляющей собственности - возможности осуществлять любое из названных законом правомочий» [12, с. 101].
Е.М. Павлик отмечает, что хищение представляет собой безвозмездное изъятие чужой собственности, для которого характерно наличие следующих обязательных признаков:
-
- изъятие чужого имущества происходит без предоставления соответствующего;
-
- изъятие чужого имущества осуществляется без намерения возвратить его обратно собственнику .
В случае же угона виновный также не предоставляет собственнику ничего взамен угнанному транспортному средству, но, при этом, виновный не намерен обратить угнанное им транспортное средство в свою собственность или же в собственность других лиц. То есть отсутствует цель присвоения имущества, что является обязательным при квалификации деяния как угон [13, с. 81].
В качестве мотивов угона Ю.В. Плодовским были выделены такие, как месть, хулиганство, необходимость добраться до определенного места или доставить груз, а также угон с целью совершения иного преступного деяния. При этом, важным для квалификации деяния как угон является тот факт, что виновный, достигнув своей цели, оставляет транспортное средств в определенном месте и затем скрывается [14, с. 78].
Кража чужого имущества, как и любая правовая категория, должна иметь свое содержание, форму и пределы своего действия. Составляющими кражи являются объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы одного элемента приводит к невозможности привлечения лица к ответственности уголовного характера.
Объективная сторона преступления кражи, как и любого другого преступления, представляет собой совокупность определенных законом признаков, характеризующих внешнее выражение опасного для общества посягательства на объект, охраняемый уголовным правом. Раскрытие содержания уголовного преступления, вытекающих из него последствий и других признаков объективного вида позволяет рассматривать совершенное деяние в полном объеме и в дальнейшем легко анализировать его конкретные формы.
Объективная сторона кражи состоит в действиях, которые выражаются в безвозмездном и незаконном изъятии преступником не принадлежащих ему вещей, в свою пользу или в пользу третьих лиц, в результате чего собственнику причиняется имущественный и моральный ущерб.
Глава, посвященная преступлениям против чужого имущества, раскрывает в разных статьях виды уголовной ответственности за различные формы хищения. Чтобы правильно квалифицировать противоправное деяние, необходимо знать основные отличия кражи от других форм хищения (грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и растрата).
Основным отличием и одним из признаков объективной стороны кражи является способ действия. В отличие от других основных видов хищений (грабеж и разбой), кража характеризуется скрытностью характера изъятия чужого имущества. Это выражается в том, что преступник не оказывает ни физического, ни психического давления на потерпевшего или третьих лиц и не применяет к ним никакого насилия. Изъятие имущества не противоречит воле потерпевшего, но и не учитывается. Действия преступника являются тайной для потерпевшего и окружающих его людей (если они присутствуют), либо они 7
не осознают, что происходящее является кражей. Например, если человек, переодетый ремонтником, снимает компьютер якобы для ремонта. В то же время окружающие люди не воспринимают его действия как кражу, так как уверены в законности изъятия предмета.
Лебедев В.М. утверждает, что объективная сторона кражи заключается в тайном незаконном изъятии имущества в отсутствие его собственника или владельца, а равно посторонних лиц, если такое изъятие совершено в их присутствии, но незаметно для них [11, с. 398]. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества.
В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», сказано, что если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества [16]. Если лица, которые видели незаконное изъятие чужого имущества, приняли меры к пресечению хищения, то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ. В пункте 5 того же Постановления сказано: «Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как разбой».
Субъект преступления – это или гражданин России, или лицо без гражданства, или иностранец. По ст. 11 и 12 УК РФ все лица, которые совершили преступления на территории России, подлежат уголовной 8
ответственности в соответствии с действующим уголовным законодательством. Однако для того чтобы охарактеризовать лицо, которое совершило преступление, данные признаки являются недостаточными. Для этого необходимо больше признаков, которые бы полно охарактеризовали личность преступника. Личность детерминируется наследственностью и окружающей средой, при этом ее достаточно трудно изменить или улучшить.
Субъект преступления является «конкретным лицом (человеком), которое обладает большим количеством качеств. Это человек, который живет в обществе, связан с людьми множеством различных отношений. Он имеет целый комплекс психических качеств, определенную сумму знаний, навыков, убеждений, привычек и так далее» [4, с. 231].
Считается, что признаки субъекта данные качества не раскрывают. Их можно раскрыть только путем характеристики личности преступника, что является более широким понятием, чем субъект преступления.
Как отмечает Ф. А. Созонтов, кража и самоуправство различается по цели совершения преступного деяния. При совершении самоуправства виновный не имеет своей целью похищение чужого имущества, а совершает деяние с целью завладения имуществом, в отношении которого он имеет реальное или же предполагаемое право собственности [19, с. 149].
Рассмотрев материалы уголовных дел, И.Ю. Касницкая пришла к выводу о том, что чаще всего самоуправство совершается с целью взыскания задолженности по реальным или предполагаемым денежным или имущественным обязательствам в нарушение порядка их взыскания, предусмотренного действующим законодательством. При этом, данное деяние может совершаться как с целью взыскания задолженности в свою пользу, так и в пользу третьих лиц [9, с. 1432].
Следует отметить, что в науке вызывает обширное количество дискуссий проблема ответственности за неоконченное мелкое хищение. На практике достаточно часто встречаются случаи, когда лицо делает попытку совершить хищение чужого имущества, стоимость которого составляет менее 2500 рублей, 9
но не доводит начатое до конца по разным причинам. Например, его преступная деятельность пресекается охранником магазина [6, с. 107].
Действующим законодательством ответственность за совершение подобного деяния не предусмотрена. По мнению некоторых ученых отсутствие ответственности в данном случае приводит к тому, что у таких лиц возникает чувство вседозволенности, которое способствует совершению ими новых административных правонарушений, а в некоторых случаях и преступлений. В связи с этим данная группа ученых предлагает закрепить ответственность за совершение покушения на мелкое хищение [1, с. 822].
Еще одной важной проблемой в рамках разграничения уголовной и административной ответственности за хищения является вопрос малозначительности деяния. Указанное понятие распространяется как на неквалифицированные, так и на квалифицированные виды краж. На практике это приводит к следующему: уголовная ответственность за квалифицированные виды краж наступает вне зависимости от размера причиненного ущерба.
Основная проблема малозначительности деяния заключается в том, что данная категория является оценочной категорией. В судебной практике не выработано единого подхода к определению малозначительности преступных деяний. Указанная ситуация является недопустимой, поэтому требуется выработать единый подход к определению малозначительности деяния, так как отсутствие единого подхода ставит под сомнение законодательное положение о том, что минимальный размер ущерба применим только по отношению к неквалифицированным видам краж.
На основании вышесказанного требуется сделать вывод о том, что в действующем законодательстве требуется закрепить размер ущерба, при котором деяние следует считать малозначительным. Например, некоторые авторы считают, что деяние должно признаваться малозначительным, если размер причиненного ущерба составляет менее 1/10 размера прожиточного минимума [10, с. 132]. Таким образом, кражу как уголовное преступление и кражу как мелкое хищение следует разграничивать между собой по размеру 10
причиненного ущерба. То есть размер причиненного ущерба ниже 2500 рублей и отсутствуют квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 158 УК РФ, то содеянное следует квалифицировать в качестве административного правонарушения. Также, следует иметь в виду, что административный состав мелкого хищения не содержит квалифицирующих признаков, поэтому при их наличии содеянное следует рассматривать в качестве уголовного преступления.
Под квалифицирующими признаками в науке уголовного права принято понимать отягчающие обстоятельства, которые были включены законодателем в определенный состав преступления и оказывают влияние на квалификацию содеянного, отягчая уголовную ответственность. При этом, квалифицирующие обстоятельства, предусмотренные в норме Особенной части УК РФ, отличаются от отягчающих обстоятельств, которые предусмотрены ст. 63 УК РФ. Данное отличие заключается в том, что отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, не оказывают влияние на квалификацию содеянного, а только принимаются во внимание при назначении наказания [23, с. 22].
Квалифицирующие признаки кражи предусмотрены ч. 2 ст. 158 УК РФ, согласно которой к ним относятся факты совершения краж:
-
- группой лиц по предварительному сговору;
-
- с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
-
- с причинением значительного ущерба гражданину;
-
- из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.
В действующем уголовном законодательстве принято выделять такие разновидности соучастия, как совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, а также в составе организованного преступного сообщества. Отдельные трудности на практике вызывает разграничение указанных форм соучастия в совершении преступлений. В действующем УК РФ определение группы лиц по предварительному сговору предусмотрено ч. 2 ст. 35 УК РФ.
Так, по мнению В.А. Попова, единственным критерием, дающим возможность правоприменителю разграничивать такие формы соучастия, как «группа лиц» и «группа лиц по предварительному сговору», является соответственно факт наличия или же отсутствия предварительного сговора между соучастниками о совершении совместного преступного деяния49. С данной позицией выражает согласие А. Арутюнов, который отмечает, что предварительный сговор будет иметь место и в случае, если один из участников группы навязывает другим мысль о необходимости совершения преступления, а другие высказывают согласие с ним [3, с. 41].
Проблематика разграничения группы лиц и группы лиц по предварительному сговору рассматривается также и Д.О. Даниловым. Автор отмечает, что традиционно в науке уголовного права группа лиц рассматривается как соисполнительство, то есть совместное исполнение участниками группы объективной стороны состава преступления при отсутствии между ними предварительной договоренности. Позиция о том, что в группе лиц всегда оба участника являются исполнителями, считается достаточно спорной в теории уголовного права. В качестве аргументации нередко приводится убийство, в рамках которого один из участников непосредственно нанес смертельное ранение, а второй удерживал потерпевшего в данный момент. В приведенном примере второй участник является пособником [5, с. 172].
В.А. Попов также отмечает, что предварительный сговор может быть выражен в любой форме, но важно, чтобы он состоялся до совершения совместного преступного деяния. При этом, для квалификации не имеет значения, за сколько времени указанные лица договорились до момента совершения преступления. Даже если соучастники договорились за одну секунду до момента совершения преступления, деяние следует квалифицировать как совершенное группой лиц по предварительному сговору. 12
Основным же отличительным признаком группы лиц по предварительному сговору от организованной группы является устойчивость последней [15, с. 59].
Как отмечает Е. В. Евстратенко, в случае мошенничества обман может проявляться в двух формах:
-
- активный обман, выраженный в сообщении лицу ложных сведений, формирующих у потерпевшего ложные представления о чем-либо;
-
- пассивный обман, выраженный в умалчивании от потерпевшего каких-либо важных сведений [7, с. 73].
Помимо этого, как отмечает К. Н. Карпов, «…если электронные средства платежа предъявляются физическому лицу, деяние квалифицируется как мошенничество, а при использовании банкомата как кража» [8, с. 141].
На основании указанной позиции Верхового Суда Российской Федерации, а также на основании анализа действующего уголовного законодательства С.С. Ивлев выделил следующие отличия организованной группы от группы лиц по предварительному сговору:
-
- организованная группа имеет лидера, который является ее постоянным руководителем. В свою очередь, у группы лиц по предварительному сговору постоянный лидер фактически отсутствует;
-
- организованная группа характеризуется неизменностью основного состава ее участников на протяжении всей своей деятельности. В свою очередь, состав группы лиц по предварительному сговору может изменяться;
-
- преступная деятельность организованной группы длится существенно больше во времени, нежели преступная деятельность группы лиц по предварительному сговору [8, с. 141].
Размер кражи определяется исходя из стоимости похищенного имущества на день совершения преступления, а при определении ущерба, подлежащего возмещению, необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении вреда с последующей индексацией на момент исполнения.
Таким образом, дифференциация уголовной ответственности является одним из важнейших принципов российского уголовного права, который соответствует одному из направлений уголовной политики, предназначенных для целей совершенствования действующего законодательства. Дифференциация уголовной ответственности подразумевает возможность выбора мер уголовной ответственности в соответствии с характером и степенью общественной опасности совершенного преступного деяния. Исходя из этого, дифференция уголовной ответственности способствует практической реализации принципа справедливости, предусмотренного ст. 6 УК РФ. Соответственно, дифференциация уголовной ответственности за кражу в действующем уголовном законодательстве реализуется через закрепление квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков в рамках нормы 158 УК РФ. На основании проведенного исследования квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков кражи предлагаем внести в действующее законодательство следующие изменения:
-
- отменить квалифицирующий признак, устанавливающий
-
о тветственность за кражу, причинившую значительный ущерб потерпевшему;
-
- закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации правила квалификации содеянного по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Список литературы Проблемы квалификации кражи
- Амиянц К.А. Понятие хищений в современном уголовном законодательстве России, его формы и виды / К.А. Амиянц // Аллея науки. -2018. - № 4 (20). - С. 821-824.
- Анисимов В.Ф. История законодательства России о преступлениях против собственности с признаками хищения / В.Ф. Анисимов // Вестник Югорского государственного университета. - 2009. - № 4 (15). - С. 52-58.
- Арутюнов А. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору: проблемы квалификации и ответственности / А. Арутюнов // Право и политика. - М.: Nota Bene. - 2002. - № 2. - С. 39-46.
- Гутиева И.Г. Уголовно-правовая характеристика кражи / И.Г. Гутиева // Евразийский юридический журнал. - 2021. - № 2. - С. 230-231.
- Данилов Д.О. Совершение преступления группой лиц / Д.О. Данилов // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). Казань: Бук. - 2015. - С. 171-174
- Добродей А. Разграничение уголовной и административной ответственности / А. Добрей // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. - 2019. - С. 105-109.
- Евстратенко Е.В. Хищение с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств / Е.В. Евстратенко // Вестник Южно -Уральского государственного университета. - 2020. - № 4. - С. 19-23.
- Карпов К.Н. Особенности квалификации хищений с банковского счета либо электронных денежных средств / К.Н. Карпов // Вестник Омского государственного университета. - 2019. - № 3. - С. 138-145.
- Касницкая И.Ю. Уголовно-правовая характеристика самоуправства и его отграничение от смежных составов преступлений / И.Ю. Касницкая // Концепт. - 2017. - № 31. - С. 1431-1435.
- Корсун Д.Ю. Малозначительное деяние с квалифицирующими признаками / Д.Ю. Корсун // Гуманитарные, социально -экономические и общественные науки. -2019. - № 3. - С. 131-138.
- Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2014. - 1077 с.
- Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М., 2012. - 527 с.
- Павлик Е.М., Павлова Е.С. Проблемы отграничения угона от хищений транспортных средств: уголовно-правовые вопросы / Е.М. Павлик, Е.С. Павлова // Царскосельские чтения. - 2017. - № 2. - С. 79-84.
- Плодовский Ю.В. Проблемы отграничения кражи автомобиля от завладения автомобилем без цели хищения (угона) / Ю.В. Плодовский // Юридическая наука. - 2012. - № 1. - С. 62-66.
- Попов В.А. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация): соотношение понятий / В.А. Попов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. - 2016. - № 2. - С. 5861.
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» - Режим доступа. URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обращения: 23.08.2022).
- Рыбаков С.В. Некоторые страницы истории отношений Руси с Византией / С.В. Рыбаков // Казачество. - 2016. - № 1. - С. 11-17.
- Савченко Д.А. Создание Соборного Уложения: исторический опыт модернизации отечественного законодательства / Д.А. Савченко // Вестник НГУЭУ. - 2017. - № 3. - С. 164.
- Созонтов Ф.А. Анализ отличия кражи от иных форм хищения чужого имущества / Ф.А. Созонтов // Актуальные проблемы юридической науки и практики. - 2017. - № 2. - С. 147-151.
- Солина О.А. Развитие ответственности за хищение собственности после 1917 года / О.А. Солина // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2016. - № 2. - С. 82.
- Тишков С.В. История борьбы в СССР с хищениями социалистической собственности / С.В. Тишков // Историко-экономические исследования. -2018. - № 5. - С. 92.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3 (в ред. от 14.07.2022) // СЗ РФ. 1996. 17 июня. Ст. 2954.
- Уланова Ю.Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах (п. «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) / Ю.Ю. Уланова // Российский судья. - 2009. - № 5. - С. 20-22.
- Федоров М.В. Договор Руси с Византией: учебно-методическое пособие. М., 2012. - 87 с.
- Хачатрян А.В. Преступления против собственности по Псковской судной грамоте / А.В. Хачатрян // Вектор науки ТГУ. - 2009. - № 2. - С. 154-157.
- Шпаковский Ю.Г. Псковская судная грамота / Ю.Г. Шпаковский // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. - 2018. - № 2. - С. 146-161.