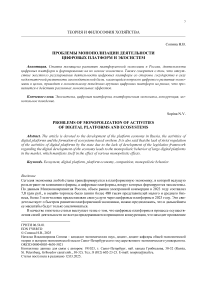Проблемы монополизации деятельности цифровых платформ и экосистем
Автор: Сопина Н.В.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Теория и философия хозяйства
Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена развитию платформенной экономики в России, деятельности цифровых платформ и формированию на их основе экосистем. Также говорится о том, что отсутствие жесткого регулирования деятельности цифровых платформ со стороны государства в силу недостаточной развитости законодательной базы, касающейся вопросов цифрового развития экономики в целом, приводит к монопольному поведению крупных цифровых платформ на рынке, что проявляется в действии различных монопольных эффектов.
Экосистема, цифровая платформа, платформенная экономика, конкуренция, монопольное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/148331209
IDR: 148331209
Текст научной статьи Проблемы монополизации деятельности цифровых платформ и экосистем
Сегодня экономика любой станы трансформируется в платформенную экономику, в которой ведущую роль играют не компании и фирмы, а цифровые платформы, вокруг которых формируются экосистемы. По данным Минэкономразвития России, объем рынка электронной коммерции в 2023 году составлял 7,8 трлн руб., в онлайн-торговле было занято более 480 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, более 3 млн человек предоставляли свои услуги через цифровые платформы в 2023 году. Это свидетельствует о быстром развитии платформенной экономики, можно предположить, что в дальнейшем ее масштабы будут только увеличиваться.
В качестве гипотезы статьи выступает тезис о том, что цифровые платформы в процессе осуществления своей деятельности не всегда придерживаются принципов конкуренции, что находит проявление
ГРНТИ 06.54.01
EDN FYRRTD
Наталья Владимировна Сопина – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0000-0003-4630-5021
в монопольных эффектах. В связи с этим, государству необходимо применять меры, направленные на защиту от их монопольного поведения всех заинтересованных лиц. Цель работы – рассмотреть эффекты, возникающие вследствие деятельности цифровых платформ и экосистем в российской экономике, связанные с их монопольным поведением, и выявить – насколько государство активно решает эти проблемы через принятие нормативно-правовых актов, касающихся антимонопольного регулирования.
Материалы и методы
Для решения поставленной цели был использован системный подход, который позволяет рассматривать платформенную экономику, как составную часть экономики страны; применение методов теоретического анализа и сравнения позволяет выявить общие проблемы монопольного поведения цифровых платформ по отношению ко всем участникам отношений; метод формальной логики дает возможность выявить особенности, закономерности и эффекты, возникающие в результате деятельности цифровых платформ.
Материалами для статьи послужили нормативно-правовые акты РФ, статьи и исследования, касающиеся вопросов развития цифровой экономики российских и зарубежных ученых, аналитические материалы Интернет-источников.
Результаты и обсуждение
Термин «экосистемы» появился раньше, чем «цифровые платформы». Американский ученый Дж. Мур в своей работе стал развивать идею экосистем и рассматривать компании не как участников отдельной индустрии, но как часть бизнес-экосистемы, которая объединяет несколько индустрий (см: . Основой создания экосистем, согласно Дж. Муру, является инновация, вот почему их создание и развитие стало активно происходит в условиях развития цифровых технологий. Основой цифровых технологий также являются инновации, которые дали возможность для трансформации ранее действующих процессов в экономике. Инновации в условиях цифровизации позволили поменять условия экономической среды и предложили новые способы зарабатывания денег. Компании, действующие в цифровой среде, формируют свои экосистемы.
Характеристики, которые были даны Дж. Муром в отношении экосистем, являются актуальными и в настоящее время. В основе любой экосистемы должна лежать смелая бизнес идея, экосистема должна объединять независимых участников, которые имеют цель – создание новой потребительской ценности, все участники должны совместно работать и развиваться, чтобы созданная ими экосистема становилась сплоченной и все более конкурентоспособной со временем [там же].
Существуют разные определения экосистем. Например, экосистема – это стратегия, при которой независимые в операционной деятельности, действующие на свой страх и риск бизнес-единицы создают совместную ценность для потребителей, использую общие правила, инструменты и знания (см: . Либо цифровая экосистема – это клиентоцентричная бизнес-модель, объединяющая две и более группы продуктов, услуг, информации для удовлетворения конечных потребностей клиентов (см: 871be41599850/. Наконец, экосистема – комплекс сервисов и продуктов от единого провайдера, который охватывает несколько вертикалей (отраслей), связан единой цифровой платформой и развивается с помощью анализа и использования данных о пользователях (см: .
Рассматривая приведенные определения, видно, как меняется понятие экосистемы, если раньше целью появления экосистемы являлось создание новой ценности для пользователя, то впоследствии экосистемы стали создаваться на базе цифровых платформ и в своей работе используют технологии анализа больших данных для изучения вкусов потребителей. Таким образом, под экосистемой мы будем понимать бизнес-модель, которая формируется на базе цифровой платформы, включает более двух вертикалей, собирая и анализируя данные о потребителях, она создает для них новую ценность.
Теперь рассмотрим, что из себя представляет цифровая платформа. Есть разные определения данного понятия. И нередко понятия экосистемы и цифровой платформы рассматривают в качестве синонимов, хотя в действительности, это не так. Платформа – это бизнес-модель, которая ускоряет обмен ценностью между двумя и более группами пользователей, потребителей и производителей [1, с. 37].
Цифровая платформа – это бизнес-модель, позволяющая потребителям и поставщикам связываться онлайн для обмена продуктами, услугами и информацией, включая предоставление продуктов (услуг), информации собственного производства (см: 120645a871be41599850/. Или же: цифровая платформа – информационная система и (или) сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие технические, организационные, информационные и иные возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц, в том числе в целях обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг (см: .
Как нам представляется, цифровая платформа не выступает в роли бизнес-модели, а является инструментом для ее формирования в виде экосистемы. Сама цифровая платформа может выступать в виде информационной системы, сайта, программного обеспечения, которые создают возможности для взаимодействия неограниченного круга лиц для достижения различных целей: обмена информацией, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг [2, с. 20].
Активное развитие экосистем в экономике имеет положительные моменты [3]: сетевые эффекты (чем больше пользователей присутствует на платформе, тем выше ценность для всех участников образуется); чем больше число участников, тем больше данных о них можно собрать и проанализировать, что способствует росту конкурентоспособности компании, формирующей экосистему; платформы дают возможность масштабировать бизнес в географическом пространстве с наименьшими издержками. Развитие цифровых технологий сделало цифровой бизнес более привлекательным, чем физический в силу наличия низких издержек функционирования. Это привело к тому, что данные технологии стали угрозами для существования многим видам бизнеса. В частности, это коснулось торговли. Сегодня продавцам выгоднее предлагать свои товары на страницах маркетплейсов, нежели открывать физические точки продаж [4].
В 2024 году впервые более половины россиян стали приобретать продукты питания и одежду онлайн. Если в 2022 году доля граждан, совершающих покупки в интернет-магазинах, составляла 45,7%, то в 2024 году была равна уже 58,9%, а разрыв в доле покупающих продукты питания в интернет-магазинах увеличился с 32,1% до 53,6%. В целом, российский рынок электронной коммерции с 2019 по 2024 годы вырос в 7,5 раз в денежном выражении, а в 2024 году его объем составил 12,6 трлн руб., по сравнению с 9,3 трлн руб. в 2023 г. Его доля в розничной торговле выросла с 5% до 23% (см: .
Развитие цифровых технологий изменило поведение покупателей, которым сегодня удобнее, комфортнее, проще, быстрее, но не всегда дешевле приобретать товар в онлайн магазине. Здесь возникает отрицательный фактор развития экосистем – высокие издержки перехода. Они возникаю в силу действия «эффекта захвата потребителя», когда потребитель настолько глубоко привязался к компании через услуги вертикалей ее экосистемы, что перейти к компании-конкуренту становиться дорого из-за возрастающих транзакционных издержек. Это создает барьеры для входа на рынок новым компаниям. Поэтому в условиях цифровизации значимым условием конкурентоспособности компании становится способность захватить и удерживать внимание потребителя [5].
Получается так, что положительные моменты от наличия цифровых платформ и экосистем с другой стороны создают и отрицательные моменты. Сетевой эффект также имеет негативную сторону, поскольку приводит к высокой концентрации компаний на рынке, чтобы войти на рынок, компании нужно осуществить значительные первоначальные вложения, что невозможно для небольших компаний. В этом случае им проще присоединиться к лидеру рынка. Поэтому конкуренция и монополизация зависят не только от соперничества на рынке, но и от того, кто первым вошел на рынок и захватил внимание потребителя.
Проблемы монопольного поведения цифровых платформ наиболее ярко проявляются в работе мар-кетплейсов по отношению к продавцам продукции. В качестве примера можно рассмотреть Wildberries и Ozon. Причем монопольные эффекты проявляются не сразу, а на конечных стадиях формирования экосистемы вокруг платформы. Согласно выводам Дж. Мура, экосистемы проходит четыре стадии развития: зарождение, экспансия, интеграция и доминирование. И положение покупателя и продавца на каждой стадии меняется (см: :
-
1) стадия зарождения нейтральна по отношению к продавцу и потребителю, так как здесь бизнес выстраивает стратегию масштабирования и возможности формирования экосистемы на базе имеющихся ресурсов;
-
2) на стадии экспансии компания любыми способами стремится завлечь продавцов на свою платформу, предоставляя им различные возможности и скидки. На данном этапе продавцы чувствуют себя востребованными. Но покупатели пока не ощущают на себе действие сетевых эффектов, так как экосистема компании только формируется, и платформа только заполняется участниками;
-
3) на стадии интеграции поставщики начинают чувствовать на себе определенное давление, поскольку собственники платформы начинают предлагать использовать правила и инструменты работы, которые могут оказаться совсем не выгодными для них. Но покупатели, наоборот, начинают получать дополнительные выигрыши от работы с платформой в виде скидок и выгодных предложений;
-
4) на стадии доминирования экосистема занимает лидирующие позиции на рынке. И в этом случае поставщики начинают ощущать себя сильно зависимыми от экосистемы в результате глубокой интеграции в нее. Из-за низкой доли в самой экосистеме и в целом на рынке, продавцам трудно покинуть платформу экосистемы, поскольку придется нести издержки, произойдет снижение доходов.
Ярким примером, подтверждающим все этапы эволюции экосистем и развитие цифровых платформ, выступает работа маркетплейсов. По итогам 2024 года доля маркетплейсов в общем объеме российского рынка e-commerce составила 64%, в 2023 году она была 56%, а в 2019 году – 23%. При этом доля независимого e-commerce сократилась с 77% в 2019 году до 36% в 2024 году. Это свидетельствует о монополизации рынка электронной коммерции. Лидирующие позиции среди маркетплейсов России занимают Ozon, Wildberries, на третьем месте находятся Яндекс Маркет и торговые интернет-площадки экосистемы Сбера. При этом, общая доля всех десяти крупнейших интернет-платформ составляет 81,3% или 9,19 трлн. руб., на долю оставшихся компаний интернет-торговли приходится 18,7% или 2,11 трлн руб. (см: .
Доминирующее положение платформ приводит к тому, что продавцы вынуждены заключать с ними соглашения о доступе к торговой площадке, включающие различные ограничения и принудительные наборы услуг, что делает цифровую платформу монополистом и снижает конкурентные возможности для других участников рынка.
В цифровой экономике действует «эффект безбилетника», который возникает вследствие того, что платформы снижают издержки поиска товара. Этот эффект сводится к тому, что информация о товаре, представленном на платформе, дает возможность покупателю обратиться напрямую к производителю, отказавшись от услуг самой интернет-площадки. Для борьбы с этим эффектом платформы договариваются с производителем, что он не будет продавать свой товар по цене ниже, чем на данной платформе и в любом другом канале сбыта товара, включая собственные. Таким образом, на платформе формируется наиболее привлекательная цена для потребителя, а сама платформа получает конкурентное преимущество и монопольное право продажи товара. Но такое поведение интернет-площадки снижает степень конкуренции на рынке и создает дополнительный монопольный эффект [6].
В платформенном бизнесе распространены два вида ключевых бизнес-моделей: одна, когда платформа выступает в качестве посредника между покупателем и продавцом, и эта бизнес-модель характерна для маркетплейсов. Другая, когда платформа оказывает агентские услуги, например, в поиске нужной информации, рекламе, и эта бизнес-модель характерна для сайтов-поисковиков. Самые крупные поисковые системы в мире в марте 2025 года были Google, Bing и Яндекс. Для отдельных стран статистика меняется. В Китае первое место занимает поисковик Bаidu с долей рынка 52%, почти 30% принадлежит Bing, 3,65% занимает российский Яндекс и только 1,92% Google. Для США показатели распределились следующим образом: Google – 86,83%, Bing – 7,56%, Yahoo – 2,8%, DuckDuckGo – 2,23% и Яндекс – 0,3%. В России самой популярной поисковой системой является Яндекс, на долю которой приходится 76% рынка, на втором месте – Google с долей 22,7%, занимает 0,06% рынка (см: .
Позиции поисковой системы Яндекс на рынке заметно выросли за последние три года в силу нескольких причин. Во-первых, были введены ограничения на работу компании Google. Во-вторых, в 2022 году был принят закон о предустановке Яндекс.Браузера на всех типах устройств, что следует рассматривать как поддержку государством отечественных технологических компаний (см: . В-третьих, внедрение компанией нейросети YandexGPT тоже способствовало привлечению новых пользователей (см: .
Ведущей компанией на рынке поисковых услуг в большинстве стан мира выступает поисковая система Google, в Китае – Baidu, в России – Яндекс. Монопольный эффект в деятельности поисковых систем сводится к тому, что они в качестве цифрового посредника могут предоставлять не лучшие условия по поиску и приобретению товара. Например, они могут направлять пользователей к конкретным продавцам или на сайты компаний, входящие с ними в единую экосистему или находящиеся в «сговоре». Такое поведение ущемляет интересы других компаний-продавцов и сводит конкуренцию к нулю. Хорошим примером такого антиконкурентного поведения являются действия компании Google, против которой заведено дело в суде США. Компанию обвиняют в лидирующем положении на рынке интер-нет-рекламы и в заключении соглашения. Суть этого соглашения в том, что эта компания осуществляла выплаты компаниям Apple, Samsung за то, что ее поисковая система была выбрана по умолчанию на всех их устройствах и веб-браузерах (см: 67062e269a7947e8b222cf8713).
Ранее суд США признал компанию монополистом, чтобы лишить ее данного положения, суд может заставить продать браузер Chrome, так как именно он является «точкой доступа», через которую пользователи используют поисковую систему Google (см: 19/11/2024/673c01989a7947e6bc211c0a). Решение в отношении разделении инфраструктуры Google будет принято в конце 2025 года, что, конечно, скажется на всей ее экосистеме, но, возможно, компания заплатит только штраф за свои нарушения.
Похожее дело разбирала ФАС России в отношении Яндекса, который обвинили в нарушении антимонопольного законодательства. Компания Яндекс предоставляла преимущественные возможности по привлечению внимания пользователей в собственной поисковой системе сервисам своей же группы. Яндекс согласился с выдвинутыми обвинениями и устранил дискриминационные условия в своей поисковой системе (см: .
В настоящее время встает вопрос о необходимости разработки законов, которые бы регулировали и контролировали монопольное поведение цифровых компаний. Поскольку цифровые технологии только в последние пять лет стали активно внедрятся в экономические процессы, нормативных актов, которые бы регулировали их работу и эффекты как положительные, так и отрицательные, пока еще недостаточно. Сейчас основным документом, регулирующим антимонопольное поведение цифровых платформ, экосистем цифровых компаний остается Федеральный закон «О защите конкуренции». Но его положения не учитывают специфику цифровизации общества и экономики.
Так, после конфликта Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), который произошел в марте 2023 года из-за того, что маркетплейс решил штрафовать владельцев ПВЗ на сумму полной стоимости товара, если покупатель возвращал бракованный товар или отказывался от него. Такое поведение маркетплейса подтверждает его монопольное положение по отношению к участникам платформы. Данная ситуация способствовала тому, что в Федеральный закон «О защите конкуренции» были внесены изменения, которые стали регулировать работу маркетплейсов и агрегаторов.
Так, маркетплейсы не должны назначать предельно высокие и низкие цены на товары и услуги, устанавливать разную стоимость на одинаковые товары, выводить товар из продажи ради повышения цены, уменьшать или останавливать продажу товаров, которые пользуются спросом, навязывать невыгодное подписание договора или неподписание без очевидной причины, создавать дискриминационные условия, ограничивающие вход или выход продавцов с торговой площадки (см: , ?ysclid=m11wqsiosb68494832).
Однако применение данного закона недостаточно для решения монопольных проблем, возникающих вследствие развития цифровой среды. В настоящее время разрабатывается и обсуждается закон, который непосредственно будет касаться деятельности цифровых платформ. Проект закона «О платформенной экономике в Российской Федерации» планировали принять еще в 2024 году, но постоянно этот процесс откладывался в связи с вносимыми дополнениями и изменениями, теперь планируется, что он вступит в силу осенью 2025 года (см: View?npaID=152517). Новый закон позволит создать условия для единого регулирования крупнейших игроков рынка интернет-торговли.
Этот закон вводит основные понятие в сфере платформенной экономики, определяет осуществление отношений между платформой и партнерами, устанавливает требования к информации о товаре, выставляемом на платформе и др. (см: . Принятие данного закона имеет важное значение, поскольку решает несколько проблем. Первая – отсутствия четкой терминологии цифровых понятий, вторая – регулирование деятельности цифровых платформ в российской экономике, третья – ограничение действия монопольных эффектов.
Если обратиться к зарубежному опыту, то Китай, США, ЕС стали разрабатывать проекты нормативно правовых актов по регулированию цифровых рынков, цифровых услуг, данных в начале 2020-х годов. Нормативные акты, регулирующие работу экосистем и цифровых платформ этих стран, направлены на защиту интересов локальных поставщиков и потребителей. Китай и США в рамках своих законов, помимо данной цели, рассматривают защиту от проникновения на национальные рынки иностранных экосистем и цифровых платформ, что обусловлено вопросами национальной безопасности (см.: . По мнению экспертов, новый закон тоже должен содержать меры, направленные на запрещение или ограничение входа иностранных цифровых платформ на российский рынок [7].
Заключение
Формирование платформенной экономики в России и мире происходит быстрыми темпами и создает новый уклад социально-экономического развития, который базируется на работе цифровых платформ и экосистем. Формирование цифровой экономической среды только начинается, что приводит к злоупотреблению доминирующим положением крупных игроков рынка Интернет-торговли в силу недостаточной развитости законодательной базы по регулированию деятельности цифровых платформ и экосистем. Монопольное поведение компаний приводит к появлению различных монопольных эффектов от которых страдают все участники этих отношений. Поэтому государству следует принимать различного рода меры по решению возникающих проблем и, в первую очередь, разрабатывать законы по регулированию деятельности не только цифровых платформ и экосистем, но нужны законы, касающиеся вопросов цифровой трансформации в целом.