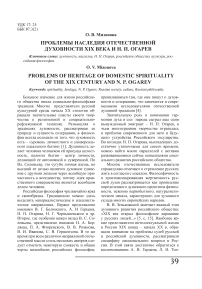Проблемы наследия отечественной духовности XIX века и Н. П. Огарев
Автор: Мизонова Ольга Викторовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье проводятся исторические параллели между взглядами Н.П. Огарёва и направлениями реформы современного российского общества. Отмечается место Н.П. Огарёва в теории социума.
Духовность, наследие, н. п. огарев, российское общество, культура, российская философия
Короткий адрес: https://sciup.org/14720802
IDR: 14720802 | УДК: 17:
Текст статьи Проблемы наследия отечественной духовности XIX века и Н. П. Огарев
Большое значение для жизни российского общества имела социально-философская традиция. Многие представители русской культурной среды начала ХХ столетия обращали значительные пласты своего творчества к религиозной и созерцательнорефлексивной тематике. Размышляя о традициях духовности, рассматривая ее природу и сущность созерцания, в философии всегда исходили из того, что духовность есть – «уровень личностного и универсального идеального бытия» [1]. Духовность делает человека человеком ей присуща целостность, полнота бытия – центр личности, делающий ее автономной и суверенной. По Вл. Соловьеву, это сугубо личная жизнь, но высший ее целью является духовное единение с другими людьми через всеобщую причастность к всеединству, потому идея нравственного совершенства является всеобщим делом человека.
Российская философия чрезвычайно ярка и своеобразна. Традиционно можно здесь выделить материалистическое и идеалистическое направления. Первое представлено именами В. Г. Белинского, А. И Герцена, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского и др. Второе, где особенно важен вклад В. С. Соловьева, представлено именами Н. А. Бердяева, П. А. Флоренского, В. В. Розанова, В. И. Иванова, С. В. Гершензона. В то же время при всем различии направлений отечественной мысли столь несхожих авторов следует отметить некоторую схожесть и общие черты виднейших российских философов, проявлявшихся там, где они пишут о духовности и созерцании, что замечается и современными исследователями отечественной духовной традиции [4].
Значительную роль в понимании гармонии духа и сил народа сыграл еще один вынужденный эмигрант – Н. П. Огарев, в чьем многогранном творчестве отразилась и проблема современного для него и будущего устройства Российского государства. Во взглядах Н. П. Огарева, выглядевших достаточно утопичными для своего времени, можно найти много параллелей с активно развивающимися сейчас концепциями социального развития российского общества.
Многие отечественные исследователи справедливо отмечают о стремление русских жить в согласии с идеалом. Философичность и христианизированная жертвенность русской души рассматривается как проявление определенного душевного прототипа феминности, исконно первобытного, натуралистического начала, характерного для духовного склада многих европейских народов.
В. В. Зеньковский замечает важный этап духовного развития российского общества: «ХIХ век открыл философское дарование у русских людей...» [5, с. 15]. Наиболее яркие представители интеллектуальной жизни в России ХIХ конца – начала ХХ в. обращали внимание на проблемы судеб русской и российской духовности, рассматривали специфику национального вопроса в России. В этой связи достаточно обратиться к воспоминаниям А. И. Герцена, Л. Н. Тол- стого, Н. П. Огарева, В. О. Ключевского, Н. В. Шелгунова; российской профессуры, многие представители которой получили признание в Европе. Кроме того, невозможно оставить в стороне западничество и славянофильство. Западническое направление отечественной философской мысли (В. Г. Белинский, А. И. Герцен) сформировало внутри себя противоположную модель, в основе которой лежит идея превосходства индивидуально-личностного права над соборно-коллективистскими и религиозными началами общественной нравственности. «В идеологии западничества отразилось стремление части русской просвещенной элиты к созданию комфортного российского общества без крепостничества и без бесправного положения крестьян, а также без самодержавного государства и православной Церкви», – отмечает В. В. Кожинов [6]. Общественная элита России не была готова к созданию демократической базы моральноправового развития российского общества, что и обусловило дальнейшие споры в русской философии, олицетворением которых стали идейные позиции славянофилов и западников, и отсутствие внятной собственной национальной программы нравственного и правового преобразования российской культуры.
-
Н. П. Огарев и многие другие, при всем разнообразии мнений и позиций во взглядах, считали, что Россия – «молодая страна» и должна во что бы то ни стало догнать Запад. В их политической позиции преобладали республиканские и социалистические идеи, отрицавшие традиционную для России самодержавную монархию. Именно в этой полемике впервые было употреблено словосочетание «русский вопрос». Очевидно, что противоположные стороны понимали его по-разному. Герцен считал, что суть «русского вопроса» заключается в освобождении крестьянства [3, с. 35]. В основном западники рассматривали русский вопрос как вопрос социально-экономического развития. Интересна подмеченная особенность, свойственная русскому национальному характеру, что «в политической экономии она проявляется в том, что когда и поскольку она самостоятельно разрабатывается русскими, на первый план выдвигается социальный момент» [12, с. 31].
Таким образом, можно говорить о появлении национального, а также русского вопроса в связи с возникновением в первой половине XIX в. в России культурной и национальной парадигмы. ХХ столетие в российской в истории показало несколько иные социальные последствия, выработанные иными социальными доминантами, нежели они были представлены в русской духовной традиции. «Российский вопрос» включает три связанных между собой группы проблем: воспроизводство и «духовное здоровье», его взаимоотношения с другими «этносами страны». Можно сказать аналогично и о других этносах, но вопрос о русском народе, особенно выделяется в череде трагедий ХХ в.
Новая культура современного общества появилась в лоне великих сомнений в возможности дальнейшего творческого развития; она родилась из оскудения творческих сил: все уже написано и сотворено – нового создать невозможно, а можно лишь «скомпоновать» из деструкции старого. Этот паразитирующий скепсис пытался найти выход в духовных и телесных инверсиях, в раскрепощении всеядных инстинктов, что во многом свидетельствует о падении человеческой личности к концу ХХ в., об ущербности ее души. Действительно, начавшееся к концу ХIХ в. «моральное раскрепощение» должно было найти себе какой-то исход. И нашло его в теориях «сексизма», столь широко оправдывавших «асоциальную» стихию, поскольку принципом становится: «Заниматься сексом лучше, чем его сублимировать».
Следует отметить, что в конце XIX – начале XX в. тема нравственного содержания духовности общества получила глубокое осмысление в русской философии. Ей посвящали труды Вл. Соловьев, Н. Гумилев, И. Ильин, В. Розанов, С. Булгаков, С. Франк и др. При всем многообразии концепций и течений можно выделить определенный содержательный аспект, который, придает ей целостность. Крупнейшие русские мыслители в своих системах стремятся выразить идею всеединства, исходя из которой, мир предстает как мистическое единство и целостность, объединенная силой духовности. Эта модель выражает изначальную бытийственную интуицию, которая определяет этический и ме- тафизический пафос российской философии и присутствует в жизни человека с младенчества [5, с. 90]. Эта проблема актуальна еще и потому, что по глубине, продолжительности и тяжести переживаемый нашей страной кризис намного превзошел когда-либо бывшие в истории российского общества.
Значительное воздействие на духовную атмосферу русского общества оказал сложный сдвоенный кризис ценностей, разразившийся в стране в конце ХIХ – начале ХХ в. Первой его частью был кризис гуманистических ценностей, разрыв свойственного им единства идей истины, добра и красоты. Его истоком было несоответствие общечеловеческих идеалов нового времени в Европе. О его проникновении в Россию говорил огромный интерес к книгам А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, а также судорожные попытки народников найти пути примирения общинных ценностей под воздействием буржуазных отношений, наступлений городской культуры. Выход из кризиса в каждом случае можно было искать как на путях консервации старого, так и на путях развития нового. Значение выбора было огромно, так как он определял этнопсихологическую доминанту нравственной культуры общества.
В условиях кризиса христианского самосознания одной из важнейших проблем, подвергавшихся мощной обработке интеллигентского ratio, является вопрос об отношении человека к религии, нравственному учению Церкви. В период «русского религиозного ренессанса», с учетом того, что он был сам по себе явлением вторичным относительно к эпохе новоевропейского гуманизма: английского позитивизма, французского рационализма и т. д., – на первый план выдвигается идея «эмансипированной от духовного призвания личности». Сфера влияния традиций в культуре начинает менять очертания, когда религия становится частью культуры, что в значительной степени определило и судьбы русской религиозной философии ХIХ – начала ХХ в., ставшей фактом культурных тенденций эпохи, нежели идей церковно-ортодоксального богословия. История идей и духовных исканий ХIХ – начала ХХ в. истоками исходит от состояния общества, где по-разному рассматривается проблема отношений человека к духовным структурам. Так, в период правления Александра I в «просвещенной элите» русского общества широко распространились спиритуализм и мистические искания в различного рода оккультных «клубах», а затем утвердились русский вульгарный утилитаризм и нигилизм ХIХ в. Жизнь российской аристократии, поместного дворянства, впрочем, как и всей элиты российского общества, уже в начале прошлого века все более уходила из-под воздействия старорусских обычаев и традиций православной церкви. Разрыв, обозначившийся между мирянами и духовенством к концу XVII в., его бытом и внутренней жизнью, возрастал.
Любую структуру духовной жизни, даже самую благородную и почитаемую, подстерегает опасность – извращение ее на практике. Как уже отмечалось, православное учительство в России прославилось воистину необычными достижениями святости, которые проповедовали идеалы доброты и терпимости в человеческих отношениях. Бывало и так, что, казалось бы, реализовался идеал: духовником правящей династии в империи Романовых стал православный старец, к тому же выходец из народа, из самой глубинки. За всю историю страны ни один духовный наставник не смог оказать такого воздействия на государственные дела, как это было при последнем российском самодержце, когда избранным старцем был Г. Е. Распутин-Новых (1872–1916). Что за «сила» толкала представителей высших кругов страны, включая царскую семью, поддерживать связь с компрометировавшими их шарлатанами? И сегодня мы можем являться свидетелями того, как огромное количество телезрителей сидели с банками водопроводной воды в ожидании, когда она по мановению телезнахарей станет целебной. Основа таких феноменов – в иррациональности коллективной психологии, а с точки зрения философов и культурологов – кризис духовности.
В ХХ в. были уже проекты антитрадици-онного понимания сути человека: «сверхчеловек» германского национал-социализма и строитель коммунизма эпохи советского интернационала. «Человек современности» – воплощение культурных идей-трендов Новейшего времени о человеческом бы- тии. Духовность общества, его основа – не какая-то абстракция в смысле «повышения духовности»: открытия стадионов, цирков, увеличения тиражей газет (хотя и это необходимо нам) – это конкретный вопрос о роли духовной сферы в образовании, становлении и деятельности государства. Анализируя природу и сущность духовной культуры в философии, всегда исходили из того, что духовность есть «своеобразный закон сохранения человечности» [7]. Духовная культура сохраняет высокие нравственные идеалы. Она придает целостный контекст социокультурного бытия нации, ее идеальную целостность, полноту культурного бытия – центр чаяний духа, делающий ее автономной и суверенной.
Во многих современных западных обществах школьная программа «сексуального воспитания» предлагает «отбросить ложную стыдливость», но на самом деле имеет цель взрастить в детях, призванных стать «новыми людьми», тотальное бесстыдство; телепередачи, проповедующие порок в качестве жизненной нормы и отстаивающие права человека на извращения в фильмах, где откровенная похабщина становится уже общим местом «будничного дневного сознания» – весь этот мутный поток, хлынувший на нас словно из преисподней, давно уже смел все границы приличий, разметал все самозащит-ные ограждения, так что человек со всеми его правами оказался беззащитным и обнаженным перед этим повальным беспутством и наглым вторжением в заповедные области его жизни.
Современный отечественный публицист Р. Гальцева справедливо отмечала: «Если отбросить идеологический антураж, герой соцреализма по сравнению с раскрепощенным персонажем 1990-х годов – это все равно что Персей супротив Медузы-Горгоны… В лице образцового “сексуального партнера” предстает беспрецедентно негуманистический, предельно антагонистический традиционному в русской культуре “положительнопрекрасному” человеку отрицательнобезобразный субъект» [2, с. 128].
На путях преодоления традиционной основы межчеловеческих отношений и усвоения новых стандартов поведения в качестве нормальных человек становится невроти- ком. В качестве самозащиты он прибегает к разного рода ухищрениям, которые лишь запутывают его следы в мире и в свою очередь порождают новые страхи.
Прежде всего он пытается укрыться от страхов в любви в дружбе, привязанности к другим людям, в браке, любовных связях. Пребывая во власти непобежденных инстинктов, а также развитого в обществе духа соперничества, общей раздражительности и враждебности, имея целью жизни получение удовольствия и будучи не способным к привнесению каких-либо жертв, он разочаровывается в браке, в дружбе и любви как таковой: можно сказать, что современный человек не умеет любить.
Как отмечает К. Хорни, «вследствие неосознанного влияния тревожности… присхо-дит возрастание сексуальных потребностей» [11, с. 30]. Не имея преграды в интимной жизни, современный человек погружается в пучину разнузданности, не подозревая, что он использует сексуальность как средство ослабления тревоги. В конце ему начинает казаться, что интимные отношения – это единственный путь установить человеческий контакт.
Стремление к обладанию вообще является одной из фундаментальных форм защиты от тревожности, и разочарованный в неудачах человек начинает «испытывать навязчивую потребность в вещах, еде, покупках… в получении чего-то» [11, с. 367].
Психозы современного человека вызваны его ложной жизненной ориентацией. Известный психоаналитик Э. Фромм определяет ее как непродуктивную, различая в ней различные модусы. В качестве таковой он рассматривает эксплуататорскую, накопительскую, рыночную и рецептивную ориентации [10, с. 61–65]. Такая психология потребителя рождает деструктивное отношение к миру, что представляет собой извращенное отношение к миру.
В основе такого отношения лежит убеждение, что человек не может прожить, используя свои возможности, что все, в чем он нуждается, должно быть представлено кем-то, а ответственность за его жизнь лежит на других. Эрих Фромм определяет такую деструктивность как энергию «непрожитой жизни» [10, с. 95]. Между тем чувства че- ловека, лишенного любви, становятся унылыми и умышленными, он теряет непосредственность и изобретательность.
Новая «непрессивная культура» предоставляет человеку полную свободу пола. Поскольку любая иерархия в ее понимании есть репрессивный порядок, она продуцирует идею равенства полов – феминизм. Феминизм, однако, только провоцируют соперничество. Секс становится символической формой власти, агрессии и господства: насилие у мужчин, захватничество у женщин.
Отход общества от созерцания духовнонравственных и традиционных ценностей культуры, утрата традиций и порожденных ее традиционных верований привели к возникновению множественных пустот в современном сознании, которые заполняются псевдоидеями, претендующими на роль идеала [12].
Ценностная система в России иначе, чем на Западе, определяет особенности национального типа морального сознания и испытывают на себе влияние национального характера. К культурно-типическим характеристикам можно отнести:
– антиномичность, полярность, обусловленные историческими, географическими, климатическими и другими особенностями становления и существования русского этноса. В ходе социальной практики антино-мичность проявляется как максимализм русского характера, поляризованность устремлений, догматизм мышления;
– «русскость», включающую в себя две ценностные категории нравственного сознания: мужественное (активное, энергичное, творческое) и женственное (пассивное, мягкое) начала, как и другие этносы. Особенность состоит в значительном преобладании женского начала в восточнославянской природе, что во многом определяет русский национальный характер;
– россияне обладают высокой нравственно-этической чуткостью, выражающейся в стремлении к идеалу, поиске внеземного идеала, неудовольствии реальным бытием.
Еще в библейской мудрости была отмечена амбивалентная сила моральной ценности любви для общества. В книге «Песнь песней» отмечается не только романтический, но прежде всего духовный идеал любовной привязанности. Впоследствии ханжество потерпело поражение и разум победил.
В русском религиозном сознании общества к «плотской любви» относились как к вредной привычке. Одновременно духовная любовь почиталась как величайшее общественное достояние [8]. Антиномичность русской души в любовной сфере рассматривается как проявление определенного архетипа женственности, стихийного, природного начала, характерного для духовного склада народа. Русская литература, в этом одно из ее величайших художественных достоинств, прозрела и изобразила любовь как состояние мира – и в молитвенном совершенстве, и в греховном, страстном демонизме. Ее творцы властно и вместе с тем естественно преодолели хаотическое состояние бытия, единичного и вселенского, оставаясь несравненными художниками, оказались пророками и учителями человечества. Художественная литература является кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочинениях В. А. Жуковского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого часто разрабатываются основные философские и социально-этические проблемы. Проблемы разрешаются таким образом, что читатель увидит их решение не просто литературное и художественное, но и философское и социальное.
Патриархальность и «родовитость» общества и существенная рудиментарность матриархальных отношений наложили свой опечаток на понимание традиционных ценностей в современном обществе. В своих исследованиях многие специалисты по культуре нашего края справедливо отмечают доминирование традиционализма и патриархата, обусловленного некоторыми рудиментами матримониальных отношений в системе восприятия внутренней культуры и ценностей созерцания.
Духовная кризисность современного общества обусловлена кризисом ценностей, который вызван деградацией ценностных связей и ценностных отношений. Будучи стабильной, но обладающей внутренней гибкостью, система ценностей может служить фактором стабилизации современного общества. Необходимо актуализировать значение базовых, традиционных нравственных ценностей в конкретно-историческом социокультурном бытии.
Современный мир диктует свои условия в виде жесткого прагматизма и консюмеризма, но, на наш взгляд, моральная составляющая нашей жизни не теряет значения и именно она является той нравственно-культурной нормой, которая «тормозит» обывателя при совершении им противоправных действий. Другая проблема – это нехватка институтов культуры и нравственности, дающих знание и понимание моральных норм в отличие от институтов культуры, что и приводит к кажущейся видимости вытеснения морали правом на современном этапе.
Россия переживает сейчас во многом специфическое состояние, обозначаемое понятием «время трансформаций». Время, когда меняются ориентиры развития как государства, так и отдельных людей, когда идет интенсивная ломка нравственных норм, духовных ценностей и идеалов, которая отражается в настроение молодежи. Самое главное здесь – нарастание разочарованности в перспективах, психология «новизны» («здесь и сейчас»), снижение нравственных критериев.
С нравственно-духовной точки зрения данный процесс важен тем, что в процессе приложения социальной активности в социальное действие происходят актуализация ценностей человека и освоение других нравственных ценностей, присущих данной социальной культуре.
Духовно-нравственное воспитание является важным звеном в становлении личности подростка, его самосознания. Оно конструирует социальные представления и ценности. Важным аспектом в указанном плане является обращение к традиционным этическим установкам российской системы общественного уклада.
Устранит ли эти различия и противоречия новая эгалитарная модель, предлагаемая современному российскому обществу? Для этого нужно прежде всего, чтобы она нашла воплощение не только в Конституции, но и в текущем семейном законодательстве и социальной политике, наконец, в процессе воспитания детей. В таких условиях традиционная нравственная структура ценностей воплотилась бы в новой идеологии социализации и семейной практике.
В конце 1990-х гг. в России десоциа-лизированное население, в основном молодое с одной стороны, с другой – криминальные структуры, с третьей – по-лууголовная идеология, с четвертой – глобальная политизация с социальными утопиями достижения индивидуального блага жесткими насильственными мерами столкнулись во взаимном самоутверждении доминирования в экономике и социальной жизни. Указанные обстоятельства при всей драматичности именно на протяжении 15–20 последних лет породили прежде всего апатию и аморализм в ментальных структурах современного российского общества.
Другой существенный симптом нашего времени – переживаемый нами распад того, что принято называть общегосударственным самосознанием. Идеи мессианства, что были исторически свойственны российским людям в 20–40-е гг. ХХ столетия, отошли в прошлое. Теперь очень мало молодых людей утверждают тезис о вселенскости значения российской культуры, тем более ее каких-то социальных сегментов, а не менее опасная тенденция современности – националистическая социальная тенденция: преференции культуры – только для одних и т. д. [9]. В последнее время вопрос о социальной значимости нравственных ценностей в нашей стране приобретает все большее значение. В значительной степени это обусловлено негативными последствиями морального кризиса, который поразил современное общество в России.
Важнейшей составляющей в решении задач современности является ознакомление с отечественными морально-культурными традициями, с реальными духовнонравственными ценностями, наследованными современными гражданами России. Это способствует не только оптимизировать и углубить современный процесс развития российской национальной культуры самосознания. Для переломных эпох характерна определенная направленность чувств на новые социально-значимые явления. Очень часто кризисные явления, происходящие на современном этапе и в истории нашего общества, заставляют производить мощную переоценку ценностей.
Пристальное внимание к национальной специфике, к «корню» духовной жизни, все более характерное для той эпохи, привело многих мыслителей и политических деятелей к необходимости попыток осмыслить ценности российской государственности, патриотизма, иногда доходящие до шовинистических выпадов.
Следует отметить, что во многом неоднозначными оказали последствия западническо-либерального воздействия на традиционную систему ценностей российского социума. Проводимые социальнополитические и экономические преобразования в России с 1991 г. с самого начала латентно или открыто способствовали внедрению новой системы ценностей: индивидуализма, потребительства, рациональной расчетливости, что значительно шло в разрез с традиционными русскими ценностными идеалами: соборностью, человеколюбием, нестяжательством, всеоткрытостью и т. д. В то же время этатистские подходы по тотальному контролю личной жизни в советский период не могли не сказаться на моральном сознании россиян, когда устоявшиеся веками представления о межличностных отношениях были нивелированы, а расхождение реального поведения и декла- рируемых установок приводило к отторжению «морали двойных стандартов».
Именно в области нравственной культуры существует возможность обрести те идеи нравственности и единения общества, что исконно питали русскую духовность, как в старину говорили, «душу России», определяли российскую специфику развития культуры и народного самосознания. Многовековая связь отечественной нравственной культуры с русским духовным наследием определила следующие специфические черты духовной ситуации в современном российском обществе: 1) соборный коллективизм, подразделяющийся на общинный коллективизм (общинность) в отношениях между ближними (прежде всего в трудовых) и тот «объединяющий» коллективизм в отношениях между дальними (гражданские отношения), что особенно проявляется при экстраординарной обстановке (войны, катастрофы и т. д.); 2) толерантность с другими народами, их идеями и системами ценностей; 3) поиск «справедливости» в общественных связях; 4) понимание труда как служения народу, стремление к равенству; 5) доминирование духовных категорий культурных ценностей над материальными.
Список литературы Проблемы наследия отечественной духовности XIX века и Н. П. Огарев
- Александрова Р. И. Россия: духовность, философия любви/Р. И. Александрова, Е. А. Курносикова. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1999. -176 с
- Гальцева Р. Это не заговор, но…/Р. Гальцева//Новый мир. -1998. -№ 1.-С. 128-145
- Герцен А. И. Общественная мысль в России в 19 в./А. И. Герцен//Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т./ред. В. П. Волгин. -М., 1960. -Т. 19. -С. 3-570
- Елдин М. А. Диалог духовных традиций: Византия, Русь и Поволжье/М. А. Елдин//Вестн. Чуваш. ун-та. Гуманитарные науки. -2013. -№ 1.-С. 35-39
- Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т./В. В. Зеньковский. -М.; Харьков: ЭКСМО-ПРЕСС, ФОЛИО, 2001. -Т. 1. -С. 3-896
- Кожинов В. В. Победы и беды России/В. В. Кожинов. -М., 2002. -С. 117
- Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации/С. Б. Крымский//Вопр. философии. -1992. -№ 12. -С. 23
- Мочалов Е. В. Этика патриотизма философии России и русского зарубежья/Е. В. Мочалов//Вестн. НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. -2012. -№ 1. -С. 152-160
- Собкин В. С. Проявление девиации в подростковой субкультуре/В. С. Собкин, З. Б. Абросимова, Д. В. Адамчук, Е. В. Баранова//Вопр. психологии. -2004. -№ 3. -С. 3-18
- Фромм Э. Искусство любить/Э. Фромм. -СПб.: Азбука, 2001. -224 с
- Хорни К. Невроз и развитие личности/К. Хорни. -М.: Смысл, 1998. -375 с
- Шердаков В. Н. Иллюзии добра: Моральные ценности и религиозная вера/В. Н. Шердаков. -М.: Политиздат, 1982. -287 с
- Seraaphin H. Russische Wert und Kapitalizinstheorien/Н. Seraaphin. -Berlin-Leipzig, 1925. -47 p