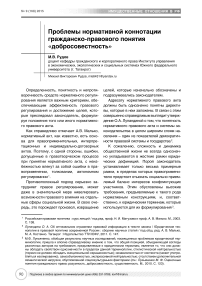Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия "добросовестность"
Автор: Рудов Михаил Викторович
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Гражданское право - вопросы имущественной политики
Статья в выпуске: 9 (168), 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследуется проблема влияния нормативного контекста на определение содержания базового для гражданского права понятия «добросовестность». Рассматривается динамика объема этого понятия в зависимости от используемых законодателем правовых средств. Автор делает вывод о необходимости введения в гражданское законодательство универсального понятия «добросовестное отношение» и предлагает его формулировку, применимую в различных гражданско-правовых институтах.
Правовая коннотация, понятие "добросовестность", общий принцип гражданского права, толкование понятия "добросовестность"
Короткий адрес: https://sciup.org/170172754
IDR: 170172754
Текст научной статьи Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия "добросовестность"
Определенность, понятность и непротиворечивость средств нормативного регулирования является важным критерием, обеспечивающим эффективность правового регулирования и достижение целей, которые преследовал законодатель, формулируя положения того или иного нормативного правового акта.
Как справедливо отмечает А.В. Малько, нормативный акт, как известно, есть основа для правоприменительных, интерпретационных и индивидуально-договорных актов. Поэтому, с одной стороны, ошибки, допущенные в правотворческом процессе при принятии нормативного акта, с неизбежностью влекут за собой ошибки в правоприменении, толковании, автономном регулировании 1.
Противоположный подход серьезно затрудняет правое регулирование, может даже в значительной мере нивелировать возможности правового влияния на отдельные сферы социальной жизни. В свою очередь, это порождает произвол, извращение целей, которые изначально обозначены и подразумевались законодателем.
Адресату нормативного правового акта должны быть однозначно понятны директивы, которые в нем заложены. В связи с этим совершенно справедливым выглядит утверждение О.А. Лупандиной о том, что понятность нормативного правового акта и системы законодательства в целом широким слоям населения – один из показателей демократичности правовой системы и государства 2.
К сожалению, сложность и динамика общественной жизни не всегда однозначно укладываются в жесткие рамки юридических дефиниций. Порой законодатель устанавливает только весьма примерные рамки, в пределах которых правоприменителю предстоит отыскать социально приемлемый баланс интересов конфликтующих участников. Этим обусловлены высокие требования, предъявляемые к такого рода нормативным конструкциям, и, соответственно, к юридическим терминам, которые используются для их формулирования 3.
Ярким примером такой проблемы, как мы полагаем, являются имеющиеся сложности в толковании нормативных конструкций, в рамках которых используются понятие «добросовестный» и производные от него. Необходимо отметить высокую значимость фиксации в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) нормы, которая адекватно отражала бы идеи законодателя относительно сущности и правового значения добросовестного отношения лица к юридически значимым действиям, которые им предпринимаются. Если судить по отдельным положениям Концепции развития гражданского законодательства, то этому понятию уже придано значение концептуального. Согласно пункту 1.1 указанного документа в ГК РФ отсутствует указание на такой общий принцип гражданского права, как добросовестность. Имеющиеся в ГК РФ указания на добросовестность поведения субъектов отдельных правоотношений недостаточны для эффективного правового регулирования. Принцип добросовестности должен распространяться на действия (поведение) участников оборота в следующих случаях:
-
• при установлении прав и обязанностей (ведение переговоров о заключении договоров и т. п.);
-
• при приобретении прав и обязанностей;
-
• при осуществлении прав и исполне-
- нии обязанностей;
-
• при защите прав.
Принципу добросовестности должна подчиняться и оценка содержания прав и обязанностей сторон 4.
Очевидно, что рассматриваемое правовое понятие обладает аморфным содержанием и является характерным оценочным признаком 5. Наполнение этого понятия качественно и количественно меняется в зависимости от нормативного и фактического контекста. Интерпретация этого признака в рамках конкретного акта правоприменения, в сущности, представляет собой диалектическое движение правового понятия от его абстрактной формы к конкретному содержанию.
Специфика рассматриваемого признака поведения предопределила то, что в существующем гражданском законодательстве не дано однозначного определения того, что является добросовестным или недобросовестным. Критерии, с помощью которых поведение субъекта гражданского правоотношения можно было бы оценить как добросовестное или недобросовестное, в ГК РФ представлены не достаточно полно. Однако исходя их того, что есть, как нам представляется, можно сделать довольно любопытные выводы.
Прежде всего следует отметить, что в ГК РФ фигурируют дефиниции, производные как от слова «добросовестность» 6, так и от слова «недобросовестность» 7. Причем эти дефиниции могут использоваться как по отдельности, что чаще, так и совместно 8.
Если говорить о дифинируемых компонентах правоотношений, то с позиции добросовестности законодатель характеризует прежде всего его содержание, выражающееся в таких видах поведения, как действие или использование, а также близким к ним 9. Причем если контекст термина «действия» предопределяет прежде всего его оценку с позиции добросовестности, то содержание терминов «использование» и «ставшее», зафиксированных соответственно в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ и пункте 2 статьи 1466 ГК РФ, конкретизируется уже применительно к некоему «добросовестному обладанию».
Добросовестность как критерий для оценки используется не только в связи с на- званными видами объективации юридически значимого поведения, но и для описания такого компонента человеческой психики, как сознание. Рассматриваемый критерий позволяет определить, насколько верно в сознании лица были отражены данные, имеющие значение для осуществления действия, имеющего правовые последствия. Закрепляя в ГК РФ положения абзаца 2 пункта 2 статьи 51 ГК РФ «Государственная регистрация юридических лиц», законодатель ограничивает круг источников информации, из которых должно исходить лицо, предпринимающее какие-либо легитимные действия.
По сути, таким образом законодатель распределяет риски наступления юридически неблагоприятных последствий между действующим субъектом, лицом, ведущим соответствующий реестр, и лицом, предоставляющим в него требуемые сведения.
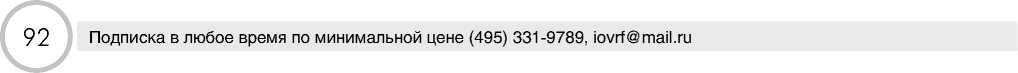
В российском законодательстве акцентуация в характеристике объективной и субъективной составляющих содержания правоотношения осуществляется по-разному.
В приведенных примерах подчеркнута некоторая особенность актов поведения. В других случаях законодатель, устанавливая некоторые параметры для поведения и используя рассматриваемый критерий, подчеркивает уже самого ́ субъекта.
Исходя из положений пункта 5 статьи 10, абзаца 3 пункта 1 статьи 145, пункта 3 статьи 147.1, абзаца 2 статьи 303 ГК РФ анализируемый понятийный ряд включает такие фигуры, как «участник», «приобретатель», «владелец». Становится очевидным, что весьма широкий термин «участник» конкретизируется прежде всего в направлении процесса завладения и владения. На основании этого можно сделать вывод о том, что в рамках ГК РФ термин «добросовестность» в первую очередь ориентирован на характеристику такого вида деятельности, как владение.
Наконец, «добросовестность» позиционируется законодателем как некий элемент нормативных предпосылок для формирования правоотношений.
Так, в пункте 2 статьи 6 ГК РФ законодатель, формулируя правила применения аналогии права, ориентирует правоприменителя на некие «требования добросовестности». Авторы пункта 3 статьи 602 ГК РФ идут еще дальше, указывая на существование некоего «принципа добросовестности» 10.
Исходя из изложенного возникает вопрос: каково содержание термина «добросовестный» в контексте ГК РФ?
Как нам представляется, наиболее информативными в этом плане являются положения:
-
• абзаца 2 пункта 2 статьи 51 ГК РФ «Государственная регистрация юридических лиц»;
-
• абзаца 3 пункта 1 статьи 145 ГК РФ «Возражения по документарной ценной бумаге»;
-
• пункта 1 статьи 302 ГК РФ «Истребование имущества от добросовестного приобретателя».
В абзаце 2 пункта 2 статьи 51 ГК РФ установлено, что лицо, добросовестно полагающееся на данные единого государственного реестра юридических лиц, вправе исходить из того, что они соответствуют действительным обстоятельствам.
В свою очередь, согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 145 ГК РФ правила об ограничении возражений не применяются в случае, если владелец ценной бумаги в момент ее приобретения знал или должен был знать об отсутствии основания возникновения прав, удостоверенных ценной бумагой, в том числе о недействительности такого основания, либо об отсутствии прав предшествующих владельцев ценной бумаги, в том числе о недействительности основания их возникновения, а также в случае, если владелец ценной бумаги не является ее добросовестным приобретателем.
Наконец, в пункте 1 статьи 302 ГК РФ «Истребование имущества от добросовестного приобретателя» установлено, что если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Названные нормативные положения увязывают добросовестность субъекта с определенным знанием – знанием о юридически значимых обстоятельствах совершения действия, влекущего определенные право- вые последствия. Такая нормативная трактовка термина «добросовестный» вполне очевидно связана с его семантическим значением.
В теории современного языкознания признано, что в переводных памятниках слово «сове ѣ сть» употреблялось для передачи греческого слова « συνειδός » (совесть, сознание, совместное знание) 11.
В сущности, в подавляющем большинстве случаев оценка отношения субъекта к своему поведению с позиции добросовестности направлена на защиту интересов лица, не знающего и не имеющего возможности знать об обстоятельствах, объективно препятствующих наступлению того юридического результата, к которому он стремится. Таким образом, несмотря на наличие обстоятельств, объективно препятствующих возникновению юридических последствий, в случае добросовестности субъекта они все же возникают. Подтверждением этому являются положения абзаца 2 пункта 2 статьи 223 ГК РФ «Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору». То есть объективно противоправное поведение в связи с извинительным субъективным отношением к нему порождает правовые последствия 12.
Правда, есть редкие случаи, когда добросовестность или недобросовестность субъекта, вовлеченного в специфические правоотношения, игнорируется. Характерно это для положений, зафиксированных в пункте 4 статьи 147.1 «Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя».
Добросовестность как субъективное отношение субъекта к своему поведению основано на неких обстоятельствах. Специфика их такова, что если они будут установлены, то для стороннего наблюдателя будет очевидно, что при таком стечении обстоятельств субъект не знал и не мог знать о неправомерности своего поведения.
Круг обстоятельств, из которых следует исходить лицу при принятии решения о совершении какого-либо юридически значимого действия, в законодательстве практически не определен. Конкретизация этих обстоятельств осуществляется в каждом отдельном случае. Исключение сделано только в абзаце 2 пункта 2 статьи 51 ГК РФ «Государственная регистрация юридических лиц», где указан конкретный источник информации, учет которой при принятии решения свидетельствует о добросовестности субъекта.
Вместе с тем обстоятельства, из которых следует исходить при оценке чего-либо с позиции добросовестности, во всех нормах, в которых законодатель использует термин «добросовестный» и производные от него, в той или иной степени конкретизированы. То есть, по сути, законодатель называет в соответствующих нормах обстоятельства, подлежащие установлению для оценки соответствующих поступков с позиции добросовестности. В определенной степени это облегчает задачу правоприменителю, однако только в некоторой мере, поскольку все равно остаются открытыми вопросы, что представляет собой добросовестность, каковы ее объективные и производные от них субъективные критерии.
Как нам представляется, известную роль в уяснении смысла, вкладываемого законодателем в понятие «добросовестность», а также в выявлении его основных признаков может сыграть анализ контекста, в рамках которого в ГК РФ используется термин «недобросовестный» и производные от него.
В соотношении с недобросовестностью законодатель предлагает оценивать различные виды поведения, обозначенные с весьма широких позиций. Объективация интересов субъекта, которую законодатель предписывает оценивать с названных позиций, выражена в родовом понятии «поведение» 13 и входящих в его объем видовых понятиях. Категория «поведение» в сочетании с указанным термином используется для формулирования базового положения, в целом запрещающего недобросовестное поведение субъектов гражданских правоотношений.
В ряде норм недобросовестное поведение конкретизируется уже с использованием тоже достаточно широких, но уже видовых понятий, также характеризующих прежде всего различные аспекты поведе- ния субъекта, таких как «действовать» 14, «осуществлять» 15, «воспрепятствовать» 16, «содействовать» 17, «конкуренция» 18, «ведение переговоров» 19.
Помимо этого, термин «недобросовестность» используется законодателем для характеристики определенного лица, в рамках которой фигурирует довольно прозрачная аллюзия по поводу деятельности, которую такое лицо осуществляет. Речь идет о такой фигуре, как «приобретатель» 20.
Наконец, недобросовестность используется для характеристики субъективного отношения лица к тем обстоятельствам, в рамках которых лицу приходится действовать 21.
В ГК РФ дефиниции, производные от терминов «добросовестность» и «недобросовестность», одновременно используются для характеристики таких фигур, как «приобретатель» 22 и «владелец» 23.
В целом в большинстве случаев в ГК РФ «добросовестность» используется для характеристики либо «владения» 24, либо
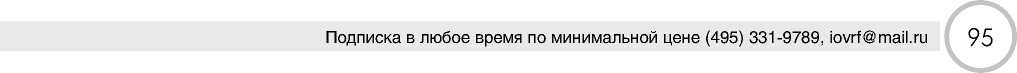
«приобретения». Необходимо отметить, что контекст названных норм, позволяющих уяснить сущность понятия «добросовестность», различен по информативности.
Как нам представляется, наиболее содержательными в этом аспекте являются положения пункта 1 статьи 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав», а также положения пункта 4 статьи 147.1 ГК РФ «Особенности истребования документарных ценных бумаг от добросовестного приобретателя». Изучение этих положений во взаимосвязи позволяет вполне содержательно представить себе буквальное содержание рассматриваемого термина или, по крайней мере, полно представить себе его аспекты.
Содержание пункта 1 статьи 10 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что законодатель как минимум выделяет два вида недобросовестности:
-
1) заведомую 25 недобросовестность при осуществлении гражданских прав;
-
2) недобросовестность, которая таким свойством не обладает, то есть недобросовестность незаведомую, несознательную.
Юридические признаки заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав необходимо предполагают как минимум либо специфическую мотивацию поведения – «намерение причинить вред другому лицу», либо специальный результат – «противоправная цель». Названные признаки заведомой недобросовестности могут сочетаться, а могут фигурировать по отдельности.
Последний вид заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав обладает и специфическим внешним выражением – это должны быть действия, совершенные в обход закона. Такая формулировка, конечно, не может не привлечь внимание уровнем своей новации.
Действительно, что такое «действия, совершенные в обход закона», в каком соотношении поступок с такой характеристикой находится с понятием «правонарушение»? К сожалению, ГК РФ позволяет считать эти вопросы открытыми 26. По-видимому, детализация этого понятия предполагается в рамках конкретных актов правоприменения.
Помимо названных видов заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав, в указанной норме зафиксирована и практически неконкретизированная разновидность недобросовестного осуществления гражданских прав, выделенная в категорию «иное заведомое».
В целом, характеризуя смыслообразующий контекст ГК РФ, на основе которого можно сделать выводы о содержании понятия «добросовестный», можно заключить следующее:
Во-первых, добросовестность – это прежде всего характеристика субъективного отношения действующего субъекта к юридически значимым обстоятельствам, из которых ему следует исходить, предпринимая какое-либо действие, заведомо имеющее правовые последствия.
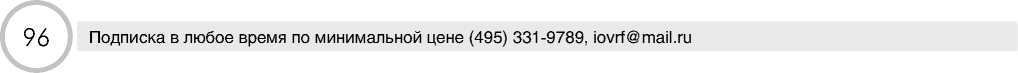
Во-вторых, добросовестность отражает нормальный баланс интересов субъекта и взаимодействующих с ним лиц.
В-третьих, в ГК РФ отсутствует базовый подход, на основе которого можно было бы уяснить общую суть понятия «добросовестность». Параметры оценки обстоятельств, имеющих юридическое значение, представлены фрагментарно, что, соответственно, затрудняет правонимание, правоприменение, давая широкий простор для субъективизма в деятельности юрисдикционных органов.
По нашему мнению, в ГК РФ должна фигурировать норма, которая раскрывала бы смысл понятия «добросовестное отношение».
На наш взгляд, учитывая подвижность границ таких понятий, как «нравственность», «основы правопорядка», такая базовая норма не должна на них опираться. Если «добросовестность» позиционируется как общий принцип гражданского права 27, то формулировка этого термина должна быть максимально определенной, фиксирующей четкие критерии.
Полагаем вполне возможным предложить следующую формулировку понятия «добросовестное отношение»: «Отношение лица к обстоятельствам, которые ему следовало учитывать при осуществлении поведения, имеющего юридические последствия, является добросовестным в том случае, если лицо не знало и не могло знать об отсутствии обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и (или) обязанностей».
Список литературы Проблемы нормативной коннотации гражданско-правового понятия "добросовестность"
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ.
- Российская правовая политика: курс лекций / под ред. проф. Н. И. Матузова и проф. А. В. Малько. М., 2003.