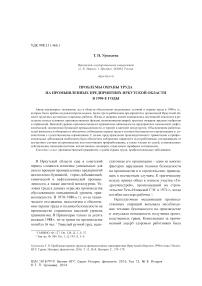Проблемы охраны труда на промышленных предприятиях Иркутской области в 1990-е годы
Автор: Урожаева Татьяна Петровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует положение дел в области обеспечения надлежащих условий и охраны труда в 1990-е гг., которые были крайне неудовлетворительными. Более трети работников предприятий и организаций Иркутской области трудились на тяжелых и вредных работах. Жизнь и здоровье людей подвергались постоянной опасности в результате износа основных производственных фондов, возникновения аварий, крупных пожаров, вредных выбросов и отравлений. Высокий уровень производственного травматизма наблюдался на предприятиях химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности, в черной и цветной металлургии. Объединениям работодателей вменялось в обязанность обеспечить соблюдение охраны труда и техники безопасности в организациях в соответствии с существующими нормативами. С целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний необходимо было обеспечить соблюдение гарантий и льгот работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве или получившим профзаболевание, а также членам их семей, установленных действующим законодательством, коллективным договором, отраслевым тарифным соглашением.
Производственный травматизм, служба охраны труда, профессиональные заболевания
Короткий адрес: https://sciup.org/147219648
IDR: 147219648 | УДК: 908.331.466.1
Текст научной статьи Проблемы охраны труда на промышленных предприятиях Иркутской области в 1990-е годы
В Иркутской области еще в советский период сложился комплекс уникальных для своего времени промышленных предприятий целлюлозно-бумажной, горно-добывающей, химической и нефтехимической промышленности, а также цветной металлургии. Условия труда в данных отраслях производства обусловливали повышенный уровень трав-моопасности. В 1970‒1980-е гг. из-за технического отставания, недостатков в обеспечении охраны труда и техники безопасности на производстве сохранялся высокий уровень травматизма. В Приангарье только за десять месяцев 1988 г. из-за травм на производстве погибло 16 чел. 1 Тяжелый ручной труд, недо- статочная его организация ‒ один из многих факторов нарушения техники безопасности на производстве и в строительстве, приводящих к несчастным случаям. К трагическому исходу привел обвал в тоннеле участка «Гидроспецстрой», произошедший на строительстве Усть-Илимской ГЭС в 1974 г., когда погибли шестеро рабочих 2.
Недостаточная механизация производственных операций вызывала несоблюдение техники безопасности на производстве и допускала возможность получения производственных травм. Компенсация за причиненный ущерб здоровью работников была
Урожаева Т. П. Проблемы охраны труда на промышленных предприятиях Иркутской области в 1990-е годы // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 8: История. С. 170–179.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 8: История © Т. П. Урожаева, 2016
введена только в 1985 г. 3 Тяжелые и небезопасные условия труда стали одной из причин текучести кадров в Иркутской области.
Исследованием региональной проблемы производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 1970– 1980-е гг. занимались А. А. Долголюк [1984], П. П. Ступин [2001] и др. Проблеме производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 1990-е гг. внимание в основном уделяли журналисты и работники регионального отдела статистики [Богачев, 1996. С. 1; Овсянникова, 1994. С. 3; Семенов, 1996. С. 2]. К сожалению, по данной проблематике пока нет серьезных исторических трудов. Цель статьи – выявление факторов, влиявших на динамику производственного травматизма в Иркутской области в 1990-е гг.
Отечественное трудовое законодательство не способствовало объективной и полной регистрации производственного травматизма. Отсутствие достоверной информации о производственном травматизме не позволяло адекватно оценивать состояние условий и охраны труда, что препятствовало формированию системы превентивных мер, направленных на сохранение здоровья работающего населения. Гарантии права работника на охрану труда, провозглашенные в «Основах законодательства РФ об охране труда», на практике слабо реализовались. Правовые нормы КЗоТ действовали практически без изменений с 1972 г. Многочисленные поправки, вносимые в трудовой кодекс с 1992 г., не повлекли за собой существенных изменений в правовых нормах по охране труда [КЗоТ РФ..., 1992. С. 72]. Принятые в 1993 г. «Основы законодательства РФ об охране труда» также не решили основных проблем управления охраной труда. Во многом это объясняется тем, что они разрабатывались в самом начале рыночной трансформации экономики страны. В то время еще не определились кон- туры новых хозяйственных отношений, не были осознаны потребности в новых подходах к управлению охраной труда.
В принятых законодательных актах («Основы законодательства РФ по охране труда» 1993 г., «Закон РФ о промышленной безопасности опасных производственных объектов» 1997 г., «Закон РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 1998 г.) была слабо выражена экономическая заинтересованность предприятий в улучшении состояния производственной безопасности [Несчастный случай…, 1998. С. 37]. Упразднив прежний планово-административный подход к безопасности, эти законодательные акты не опирались на необходимую экономическую основу их реализации.
В отдельных отраслях экономики Иркутской области риск профзаболеваний был очень высок: например, в 1994 г. на предприятиях по деревообработке 39 % рабочих мест не было обеспечено должной безопасностью труда; в целлюлозно-бумажной промышленности – 44, в электроэнергетике – 46, в цветной металлургии – 64 % мест. [Овсянникова, 1994. С. 2].
На предприятии «Стальконструкции» некоторые монтажники не могли получить направления на обследование после работ по ликвидации последствий пожара на Иркутском кабельном заводе в 1992 г. Отравления диоксиноподобными соединениями могли негативно сказаться на состоянии здоровья через 17‒20 лет. К сожалению, из более 600 чел., принимавших участие в ликвидации этого пожара, отслеживалась судьба только 140 пожарных, более 50 из которых получили диагноз профессионального заболевания, состояние здоровья других продолжало ухудшаться [Просекин, 1996. С. 2].
Нередким явлением оставались производственные аварии, повлекшие за собой гибель людей. В марте 1993 г. на БрАЗе взорвалась плавильная печь. При этом погибли трое рабочих: В. Петров, Э. Бобрышев, В. Леонтьева. Пострадали 12 чел., одного срочно пришлось доставлять в Уральский ожоговый центр. Предполагалось, что причиной взрыва стало нарушение технологии литейных работ: попадание в электролизную печь кислородосодержащих веществ и окислов металла
[Монахов, 1993. С. 2]. По словам заместителя председателя областного комитета по охране труда И. С. Дурягина, только за 1993 г. на БрАЗе погибло 13 чел. Почти вдвое увеличился уровень травматизма по сравнению с 1992 г. [Люди гибнут…, 1994. С. 2, 3].
Применение токсичных химических соединений, высоких температур на целлюлозно-бумажном производстве (предприятия Братского и Усть-Илимского лесопромышленных комплексов) способствовало формированию факторов, способных оказывать негативное влияние на здоровье работающих. Годовая производительность УИ ЛПК в 1992 г. составляла примерно 500 тыс. т беленой сульфатной целлюлозы. Условия труда основных и вспомогательных цехов целлюлозного производства по воздействию высоких концентраций метилмеркаптана и метанола, интенсивного шума, нагревающего микроклимата были отнесены ко II‒III степени третьего класса вредности, при которых повышался риск развития производственно-обусловленной патологии. Среди работников ОАО «УИ ЛПК» также наблюдался повышенный уровень соматической заболеваемости [Иркутская область…, 2000].
В 1996 г. на предприятиях Иркутской области погибло 92 чел. В 1995 г. на семь смертей было меньше. Львиную долю принесла промышленность и геология – 63 погибших (рост на 12 случаев). Среди промышленных предприятий впереди по печальной статистике лесозаготовители – 19, химики и нефтехимики – 7, металлурги-цветники – 6, производители строительных материалов – 5 [Богачев, 1996. С. 1].
Главный государственный инспектор по охране труда области В. А. Капитонов назвал объединение производственных предприятий «Восток» (г. Саянск) «конвейером травматизма». Только в 1997 г. здесь было зарегистрировано два случая травматизма, один из которых с летальным исходом. Коэффициент травматизма (число несчастных случаев за год, приходящееся на 1 тыс. работающих ‒ 0,14 ‰) на предприятии в полтора-два раза превысил среднеобластные и общероссийские показатели (0,19 и 0,07). Комитет рассматривал конкретный случай ‒ смерть в феврале 1999 г. рабочего С. Речкина, оказавшегося засыпанным щебнем. Генераль- ный директор СПО «Восток» В. П. Зюзин объяснил сложившуюся ситуацию неблагополучным финансовым положением предприятия и, как следствие этого, снижением производственной дисциплины. Задолженность по заработной плате в СПО составила полгода. Руководство вынуждено было брать на работу низкоквалифицированный персонал [Караваева, 1999. С. 16].
В период с июня по август 1999 г. в ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» было зафиксировано пять несчастных случаев, в том числе один смертельный. За этот же период 1998 г. произошло семь несчастных случаев. Заместитель начальника службы промышленной безопасности и охраны труда ОАО «АНХК» В. М. Серов обратил внимание на то, что основной причиной несчастных случаев явились невыполнение правил технической безопасности самими пострадавшими и ослабление контроля со стороны непосредственных руководителей [За халатность наказаны, 1999. С. 2].
За 1999 г. в области из-за несоблюдения правил охраны труда погибло 133 чел., 145 получили тяжелые травмы, произошло 20 групповых несчастных случаев. Только на лесозаготовках расстались с жизнью 17 чел., а десятки получили увечья. Чуть меньше (16 чел.) погибло при проведении сельскохозяйственных работ, 15 чел. ‒ на предприятиях цветной металлургии [Без защиты, 2000. С. 2].
В целом областной коэффициент производственных несчастных случаев со смертельным исходом в 1999 г. превысил среднероссийский. В период с 1994 по 1996 г. производство Иркутской области стабильно держало высокую позицию в рейтинге опасных производств – более 120 смертей ежегодно [Материалы…, 1997. С. 34, 35]. Итоговая печальная цифра в период с 1994 по 1999 г. ‒ 798 случаев травматизма со смертельным исходом. Высокий уровень безработицы и нестабильность в работе предприятий поспособствовали тому, что количество случаев травматизма на производстве со смертельным исходом только за 1998 г. увеличилось в полтора раза.
По словам главного государственного инспектора по охране труда в промышленности г. И. Минеева, основная причина высоко- го уровня травматизма на градообразующих производствах Приангарья заключалась в том, что администрация предприятий не уделяла внимание вопросам охраны труда. Мало того, должности специалистов по технике безопасности сокращались. По инструкции с каждым рабочим должен был проводиться индивидуальный инструктаж от одного до трех часов в квартал. На деле никакого инструктажа не было. Просто просили расписаться. К примеру, рабочему одного из предприятий строительного производственного объединения «Восток» был задан вопрос: «Вы прошли инструктаж?» «Нет», ‒ отвечает. «Так вот же ваша подпись». ‒ «А я думал ‒ верхонки дадут» [Минеев, 2000. С. 3].
В 1999 г. было проведено 3 841 обследование и выявлено более 2,6 тыс. нарушений на подконтрольных предприятиях, которые могли привести к несчастным случаям и авариям. Оценка состояния технической безопасности объектов показала, что 80 % обследованных производств не в полной мере соответствовали действующим требованиям безопасности. На многих предприятиях Иркутской области основные фонды были физически изношены на 70 % и более. Коренной модернизации с разработкой проектных решений требовал каждый десятый из производственных объектов, около 10 % ‒ перепрофилирования на менее опасные технологии или выведения из эксплуатации [Рягузов, 1999. С. 3].
Весьма рискованным оставался труд на деревообрабатывающих предприятиях, где в расчете на 1 тыс. занятых было зафиксировано в 1999 г. семь смертельных случаев. На этом фоне другие индустриальные отрасли казались более безобидными: производство стройматериалов ‒ 4,3 случая на 1 тыс. работников, черная металлургия, машиностроение, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность ‒ 3,5‒3,9, цветная металлургия, угольная, химическая и нефтехимическая промышленность ‒ 2,5‒2,7. Из 1 810 пострадавших за 1999 г. на предприятиях Иркутской области для 83 несчастный случай завершился смертельным исходом. В отличие от общего травматизма, динамика смертельных случаев не имела четко выраженной тенденции, снижение сменялось ростом и наоборот. Однако ежегодно смерть на рабочем месте настигала более 100 чел. (в 2000 г. ‒ 109) [Овсянникова, 2000. С. 2, 3].
Сокращение (из соображений экономии) специалистов, ответственных за эти вопросы, приводило к серьезным последствиям. Кроме того, имело значение и отношение самих работников к собственной безопасности. Как ни печально, нередко подводил российский менталитет, свойственная бесшабашность, халатность, алкогольное «снятие стресса» на рабочем месте и т. д.
В целом, к началу 2000 г. почти четверть всех занятых в промышленности работала в неблагоприятных условиях. При этом правом на льготы и компенсации за работу в таких условиях пользовалось около 50 % работающих. По итогам 2000 г., удельный вес работающих в неблагоприятных условиях труда в экономике Иркутской области составил 22,5 % от общей численности занятых в отраслях экономики, или в абсолютном значении 76,9 тыс. работников. В промышленности данный показатель в среднем был еще выше ‒ 25,6 % (55,3 тыс. чел.). Наихудшие показатели были зарегистрированы в электроэнергетике ‒ 48,3 %, цветной металлургии ‒ 36,9 %, целлюлозно-бумажной промышленности ‒ 35,5 %. Наиболее часто встречающимся негативным производственным фактором в отраслях экономики являлся повышенный уровень шума (10,2 % от общего количества занятых в неблагоприятных условиях труда в экономике). Далее следовали: загазованность воздуха рабочей среды (7,9 %) и повышенная запыленность воздуха рабочей среды (6,6 %), ионизирующие излучения, загазованность, запыленность вибрация [Производственный травматизм…, 2001. С. 13].
Неблагоприятные условия труда были напрямую связаны с высоким уровнем профессиональной заболеваемости в регионе, который составлял более двух человек на 10 тыс. работающих. По словам председателя профкома ИркАЗа В. А. Шевцова, наибольшую опасность таил новый закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» для работников вспомогательных производств, число которых, к примеру, на заводе, составляло около 40 % от общей численности трудящихся. Работодатель не собирался платить за водителей или электриков по тарифу 12 класса риска. Для этого их нужно было отделить, переведя на аренду. Последнее, как правило, было связано с сокращением штатов [Шпикалов, 2000. С. 3].
В марте 2000 г. в комитете по труду администрации Иркутской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по охране труда. Рассматривались вопросы, касающиеся условий труда и профилактики профессиональных заболеваний на ОАО «СУАЛ» (филиал ИркАЗа) и ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» (ИАПО). «Мы сами доводим до профзаболеваний, плодим инвалидов, а потом платим немалые суммы в качестве компенсаций», ‒ резюмировал заместитель начальника отдела охраны труда по медико-профилактической работе ОАО «СУАЛ» М. С. Щетинин. Только в 1999 г. на компенсации филиалу ИркАЗа пришлось выложить около 2 млн руб. [Здоровье купить нельзя..., 2000. С. 2].
Только по итогам 2000 г. в организациях Иркутской области, по данным Центра Госсанэпиднадзора Иркутской области, впервые были установлены профессиональные заболевания у 125 чел. Вместе с тем можно отметить, что с 1988 г. уровень профессиональных заболеваний снизился на 20 % и по итогам 2000 г. составил 2,75 случая на 10 тыс. работающих. Произошло это из-за того, что часть вредных производств в 1990-е гг. была закрыта (например, Ангарский белково-витаминный комбинат). Среди профессиональных заболеваний преобладали заболевания органов дыхания (14 % от общей численности установленных профзаболеваний), заболевания органов слуха (17 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (16 %), хроническая ртутная интоксикация (17 %) и вибрационная болезнь (25 %).
По информации центра Госсанэпиднадзора в Иркутской области в 2000 г. на долю профотравлений приходилось 4 % от общего количества вновь выявленных профзаболеваний. При этом хронические профессиональные отравления составили 13,2 % от общего количества случаев. Острое ухудшение самочувствия регистрировалось от воздействия хлора (1,7 %), хлорбифенила (0,5 %) [Производственный травматизм…, 2001. С. 17].
Число пострадавших от несчастных случаев на производстве Иркутской области с 1990 г. сократилось в 3,4 раза и за 2000 г. составило 2,3 тыс. чел. [Условия труда…, 2001. С. 9]. В этой ситуации на созданный в 1991‒1992 гг. областной отдел государственной экспертизы условий труда легла огромная работа. Принятие Минтрудом России в 1997 г. нового Положения «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» и работа, проводимая госэкспертами, позволили организовать на крупных предприятиях области («Иркутскэнерго», «Электросвязь», «ИркАЗ», «Востсибуголь», «Са-янскхимпром» и др.) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Следствием этого стало более четкое предоставление работающим льгот и компенсаций за труд в особых условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также индивидуально и целенаправленно проведенная работа по улучшению существующих условий.
Хронический финансовый дефицит часто отодвигал вопросы охраны труда на задний план. В Приангарье объем средств, выделенных на мероприятия по охране труда, в 1998 г. сократился по сравнению с 1997 г. на 8 %. С преодолением валютно-финансового кризиса реальные затраты непрерывно возрастали: в 2000 г. они составили 1,3 млрд руб. В связи с растущим объемом финансирования служб по охране труда, сократился производственный травматизм. Если в 1994 г. несчастные случаи фиксировались на каждом втором предприятии, то в 2000 г. ‒ на каждом третьем, число пострадавших снизилось с 3 033 до 1 810 чел. Благотворные изменения в основном объяснялись сокращением занятости. Относительные показатели говорили о положительной тенденции на промышленных предприятиях Иркутской области: уровень травматизма снизился с 5 до 4 чел. на 1 тыс. работников (точнее ‒ 4,9 и 3,6). Более редким явлением стали профессиональные заболевания: в 1997 г. такой диагноз получили 245 чел., в 1999 г. ‒ 181, в 2000 г. ‒ чуть более 100 чел. за год [Информационно-аналитический бюллетень..., 2001. С. 21].
Имели место случаи, когда работодатель оказывал прямое давление на работника, вынуждая его отказаться от оформления производственной травмы. Наличие производственных травм на предприятии могло привести к увеличению надбавок по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Отсутствие достоверной информации о производственном травматизме не позволяло адекватно оценивать состояние условий и охраны труда, что препятствовало формированию системы превентивных мер, направленных на сохранение здоровья работающего населения.
Для объективной оценки класса (или степени) профессионального риска необходимо было оперировать не только экономическими показателями, измеряемыми в суммах выплат по больничным листам и других компенсаций, но и учитывать техническую надежность работы технологического оборудования и уровень оснащения их средствами противоаварийной защиты, систем управления и регулирования.
В 2000 г. с предприятий стали производить отчисления в Фонд социального страхования. Размер отчислений определялся «классом вредности» веществ. Чем больше жизнь рабочего подвергалась опасности, тем больше предприятие платило налог. Размер отчислений составил в черной металлургии (11 класс) 4,3 % от фонда заработной платы, в цветной (12 класс) ‒ 5,9 %.
В 1999 г. Усть-Илимский ЛПК затратил на выплаты различных пособий по возмещению фактического ущерба 5 млн руб. (0,67 %). В 2000 г. УИ ЛПК перечислил взносов на сумму 60 млн руб. Коршуновский ГОК отдал 8 млн против 2,3 млн руб., Ир-кАЗ ‒ 24 млн руб. вместо 2 млн руб. [Информационно-аналитический бюллетень..., 2001. С. 24]
Риск получения травм во многом увеличивался из-за старения технологического оборудования, изношенных машин и механизмов. Сложившаяся ситуация продиктовала необходимость принятия в 1998 г. Закона Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по управлению охраной труда» [Семенов, 1998. С. 1].
Разработанный администрацией Иркутской области закон наделил муниципалитеты функциями контроля за состоянием охраны труда, позволил ввести в штаты каждого органа местного самоуправления специалиста по управлению охраной труда. После года совместной активной работы было достигнуто снижение количества несчастных случаев на производстве с летальным исходом на 7 % [Закон Иркутской области..., 1998].
Областной совет профсоюзов (представляющий отраслевые профсоюзные организации и трудовые коллективы), ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей и администрация области, в соответствии с Законом РФ «О коллективных договорах и соглашениях» и Законом «Об организационных и правовых основах социального партнерства в Иркутской области», заключили Соглашение на 1999 г. [Информационно-аналитический бюллетень..., 2001. С. 21].
В ст. 4 «Охрана труда и экологическая безопасность» администрации предписывалось принять Программу первоочередных мер по охране и улучшению условий труда в Иркутской области на 1999‒2000 гг., предусмотрев в ней: организацию системы непрерывного обучения, проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и работников организаций независимо от их форм собственности и обеспечить ее выполнение; организацию работы по проведению сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда и выдачу сертификатов соответствия.
С целью предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний необходимо было обеспечить соблюдение гарантий и льгот работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве или получившим профзаболевание, а также членам их семей, установленных действующим законодательством, коллективным договором, отраслевым тарифным соглашением. Профсоюзам предписывалось продолжить работу по созданию института уполномоченных (доверенных лиц) профсоюзного комитета по охране труда; добиваться через коллективные договоры выделения средств на осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда не ниже размеров, установленных отраслевыми тарифными соглашениями [Областное трехстороннее соглашение..., 1999. С. 2, 3].
Рассматривая вышеприведенные данные, можно прийти к выводу, что ситуация с производственным травматизмом в 1990-е гг. оставалась неблагоприятной. Причинами этого являлись высокая изношенность оборудования, низкая заинтересованность руководства предприятий в кардинальном улучшении и изменении условий труда и в целом технологического процесса. Попытки решить возникавшие проблемы сверху ситуацию реально не меняли, так как это являлось последствием общего наступившего кризиса экономической системы.
Только в конце 1990-х гг. наблюдались некоторые положительные перемены: предприятия стали страховать работников на случай травматизма, появились фонды выплат компенсаций по причине производственной травмы, несколько улучшилась технологическая дисциплина. Кроме того, профсоюзы предприятий добились выделения средств на осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, установленных отраслевыми тарифными соглашениями.
Список литературы Проблемы охраны труда на промышленных предприятиях Иркутской области в 1990-е годы
- Без защиты // Вост.-Сиб. правда. 2000. 6 апр.
- Богачев Е. Трагедий стало больше // Вост.- Сиб. правда. 1996. 25 сент.
- Долголюк А. А. Проблемы создания стабильных трудовых коллективов на предприятиях Братско-Усть-Илимского ТПК // Социально-экономическое развитие Советской Сибири: Исторический опыт и современность. Новосибирск, 1984. С. 112-117.
- За халатность наказаны… // Маяк. 1999. 5 сент.
- Закон Иркутской области «Об организационных и правовых основах социального партнерства в Иркутской области» от 2 ноября 1998 г. № 49-оз // Ведомости Законодательного собрания Иркутской области. 1998. № 24. 4 нояб.
- Здоровье купить нельзя, сохранить - можно // СМ-номер один. 2000. 28 марта.
- Информационно-аналитический бюллетень государственной инспекции труда в Иркутской области за 2000 год. Ежегодный обзор-информация. Иркутск: Облкомстат, 2001. 26 с.
- Иркутская область и человеческие ресурсы: неисчерпаемы или конечны? Иркутск, 2000. 36 с.
- Караваева В. Как «обуздать» работодателя? О заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области // Труд-7. 1999. 13 апр.
- КЗоТ РФ с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РФ от 25 сент. 1992 г. М.: Статут, 1992. 102 с.
- Люди гибнут, но никто за это не отвечает // Братский металлург. 1994. 13 янв.
- Материалы и информационно-аналитические данные Комитета по труду администрации Иркутской области 1994-1996 гг. Иркутск: Облкомстат, 1997. 36 с.
- Минеев г. Без защиты / Интервью с Г. И. Минеевым, главным государственным инспектором по охране труда в промышленности Иркутской области // СМ-номер один. 2000. 6 апр.
- Монахов В. После взрыва // Братский металлург. 1993. 15 апр.
- Несчастный случай: от травмы до суда. Нормативные документы / Сост. Т. В. Гниденко. М.: Социальная защита, 1998. 238 с.
- Областное трехстороннее соглашение на 1999 год между областным советом профсоюзов, объединениями работодателей и администрацией области по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области // Вост.-Сиб. правда. 1999. 2 июня.
- Овсянникова И. Русское «авось» // Вост.- Сиб. правда. 2000. 26 дек.
- Овсянникова И. Стоит ли экономить на здоровье? // Вост.-Сиб. правда. 1994. 30 авг.
- Производственный травматизм на предприятиях и в организациях Иркутской области за 2000 год. Экспресс-информация № 02-02-03-116 от 30.05.2001. Иркутск: Облкомстат, 2001. 6 с.
- Просекин А. Огонь, уничтоживший здоровье 42 пожарных: история пожара на заводе «Иркутсккабель» (1992 г.) и его последствия // СМ-номер один. 1996. 1 дек.
- Рягузов Ю. Главное направление - безопасность // СМ-номер один. 1999. 8 дек.
- Семенов А. Миллион за несчастный случай // Вост.-Сиб. правда. 1996. 17 дек.
- Ступин П. П. Состояние техники безопасности и охраны труда в строительных организациях Восточной Сибири (1960-1970 гг.) // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2001. С. 127-129.
- Условия труда работающих области. Стат. сб. 1993-2000 гг. Иркутск: Облкомстат, 2001. 9 с.
- Шпикалов В. Металлурги «рискуют» - и проигрывают // Шелеховский металлург. 2000. 8 февр.