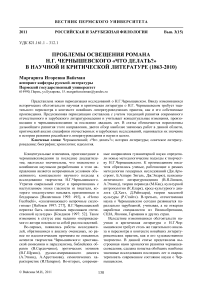Проблемы освещения романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» в научной и критической литературе (1863-2010)
Автор: Вайсман Маргарита Игоревна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
Представлена новая периодизация исследований о Н.Г.Чернышевском. Ввиду изменившихся исторических обстоятельств научная и критическая литература о Н.Г. Чернышевском требует тщательного пересмотра в контексте новейших литературоведческих практик, как и его собственные произведения. Предложенная периодизация составлена с учетом тенденций развития современного отечественного и зарубежного литературоведения и учитывает концептуальные изменения, произошедшие в чернышевсковедeнии за последние двадцать лет. В статье обозначаются перспективы дальнейшего развития этого направления, дается обзор наиболее значимых работ в данной области, критический анализ специфики отечественных и зарубежных исследований, оценивается их значение в истории развития российского литературоведения и науки в целом.
Чернышевский, "что делать?", история литературы, советское литературоведение, биография, хронология, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14729010
IDR: 14729010 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Проблемы освещения романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» в научной и критической литературе (1863-2010)
Концептуальные изменения, произошедшие в чернышевсковедении за последнее двадцатилетие, настолько значительны, что знакомство с новейшими научными разработками в этом направлении является непременным условием объективного, комплексного научного подхода к исследованию творчества Н.Г.Чернышевского. Утратив сакральный статус и превратившись с наступлением эпохи гласности из писателя, которого «недопустимо называть примитивным и бездарным» [Валентинов 1993: 495], в «Homo Fuerbachi», «сколачивающего непрочные силлогизмы» [Набоков 1997: 277], Н.Г.Чернышевский перестал быть «монолитным персонажем отечественной культуры» [Кондаков 1997: 52]. Такое изменение в статусе еще недавно «неприкасаемого» автора повлекло за собой ряд последствий.
Во-первых, появились работы исследователей, обратившихся к анализу очевидных, но ранее по идеологическим причинам не описанных аспектов творчества Чернышевского: христианской символики и параллелизма, библейских образов (В.Сердюченко), эротических мотивов (В.Г.Щукин), русско-американского диалога (А.Эткинд, А.Арустамова), семиотических характеристик (И.Паперно). Во-вторых, современ- ные направления гуманитарной науки определили новые методологические подходы к творчеству Н.Г.Чернышевского. К произведениям писателя обратились ученые, работающие в рамках методологии гендерных исследований (Дж.Арм-стронг, Б.Алперн Энгель, Дж.Эндрю), психоаналитического литературоведения (В.Я.Линков, А.Эткинд), теории перевода (М.Кац), культурной антропологии (К.Кларк), кросс-культурного диалога (Д.Хехт, Д.Рейнхарц), теории массовой культуры (Р.Стайтс). В-третьих, отечественная наука о Чернышевском сегодня развивается параллельно зарубежной, учитывая, а не отвергая наработки специалистов из Великобритании, США, Японии, Германии и других стран.
Вследствие изменившихся обстоятельств научная и критическая литература о Н.Г.Чер-нышевском требует столь же тщательного анализа и пересмотра в контексте новейших литературоведческих практик, как и его художественное творчество. В данной статье представлена выстроенная нами хронология развития чернышев-сковедения, сделана попытка обобщить наиболее значимые исследования последних лет и охарактеризовать современное состояние науки о Чернышевском.
Количество литературно-критических исследований, посвященных творчеству Чернышевского, огромно. Неослабевающий научный интерес к писателю в Советском Союзе имел идеологическую подоплеку: Чернышевский был любимым автором В.И.Ленина и, соответственно, популярным и идеологически верным объектом исследования. Э.Дрозд приводит данные Дж.Сканлана, по расчетам которого к 1967 г. в Советском союзе вышло более 400 диссертаций о Чернышевском, а к 1985 – уже более 600 [Drozd 2001: 185]. К 1980-м гг. анализ самих работ о Чернышевском выделился в отечественном литературоведении в отдельную дисциплину. В герменевтическом исследовании У.А.Гуральника «Наследие Н.Г.Чернышевского-писателя и советское литературоведение» рассматривается «несколько сот публикаций, прямо или косвенно касающихся наследия Н.Г.Чернышевского-писателя» [Гуральник 1980: 46].
Масштабный труд, книга Гуральника, дает представление о том, сколь широкий круг тем был охвачен наукой о Чернышевском со времени ее формального становления. Подводя итог более чем полувековой работе, ученый выделяет основные тенденции, наблюдающиеся в развитии чернышевсковедения в период с 1920-х (отсчет ведется от статей Луначарского) по 1980-е гг. Главной из них становится перенос акцента с «теоретических воззрений» на «художественное творчество», однако автор отмечает, что на момент написания книги «широких сопоставлений эстетической теории Чернышевского и его художественной практики в научной литературе о нем все еще мало» [там же: 47].
Несмотря на ценностный переворот, позволивший рассматривать творчество Чернышевского в принципиально иной системе эстетических и научных координат, эта проблема актуальна и сегодня. По мнению современных ученых, творчество писателя, в частности «Что делать?», «последовательно толковались и противниками, и поклонниками ошибочно, по большей части именно из-за отказа рассматривать его как литературный текст» [Drozd 2001: X]. Такой подход был, вероятно, сформирован еще в отзывах современников, резко отреагировавших на дискурсивную неоднородность и экспериментальную поэтику текста. Таким образом, прослеживается четкая хронологическая ось, двигаясь по которой можно выделить определенные этапы в развитии науки о Чернышевском.
Диахронический подход к структуризации корпуса литературно-критических текстов о Чернышевском делает очевидным идеологиче- ские «точки демаркации», разделяющие три основных периода:
-
• досоветский (1863 – 1928);
-
• советский (1928 – 1990);
-
• постсоветский (1990 – …).
Годы, определяющие границы периодов, отражают прежде всего смену идеологических эпох, а не календарных дат. Так, отзывы о статьях Чернышевского в печати появлялись и до 1863 г., однако, поскольку «Что делать?» был первым опубликованным художественным произведением автора, нам кажется целесообразным начинать отсчет истории Чернышевского-писателя как объекта литературоведения с даты публикации его главного литературного труда. Хотя Советский Союз как государство был окончательно сформирован в 1922, тем не менее программная статья А.В. Луначарского, определившая темы исследовательских работ на многие годы вперед, вышла в свет в 1928 г., окончательно поставив (при поддержке Ленина) точку в развязавшейся было полемике о писателе. Что касается датировки начала постсоветского периода, то, несмотря на то что официально СССР прекратил свое существование в 1991 г., первый сборник, обозначивший новый курс в чернышев-сковедении «“Что делать?” Н.Г.Чернышевского. Историко-функциональное исследование» под ред. Н.К.Ломунова, вышел уже в 1990 г., в условиях «гласности» и сильно смягчившегося идеологического климата. Таким образом, указанные даты отражают в первую очередь изменения в литературном процессе, являющемся непосредственным следствием хода российской истории.
Выбор названий для обозначения периодов обусловлен очевидным фактом доминирования советского периода исследований над последующим и предыдущим. На сегодняшний день массив научной и критической литературы, созданный в период с 1928 по 1991 г., существенно превалирует по объему количество работ, вышедших как до, так и после этих дат. То, что ситуация может измениться в ближайшем будущем, представляется маловероятным, однако сам факт появления новых исследовательских работ о Чернышевском, говорит о том, что у науки о Чернышевском, несомненно, есть будущее.
Досоветский период. Сама природа «Что делать?», полемического, во многом намеренно провокационного текста, определила отзывы на него современников. Л.Толстой, И.Тургенев и другие писатели выступили с резкой критикой романа, и даже соратники Чернышевского по политическому лагерю, например А.Герцен, не оказали ему поддержки – слишком неоднозначной была художественная позиция автора. В ста- тье «Николай Чернышевский в российской памяти и критике» А.А.Демченко выстраивает выступления современников в два ряда: pro и contra [Демченко 2008: 41]. «За» Чернышевского были отзывы А.М.Бухарева (архимандрита Федора), Н.А.Бердяева, Н.С.Лескова, Д.И.Писарева. Наиболее весомыми выступлениями «против» – статьи А.А.Фета (при участии В.П.Боткина) и Н.Н.Страхова.
Данный период развития чернышевсковеде-ния характеризуется двумя основными чертами. Во-первых, очевидно, что отзывы о романе «Что делать?» создаются и печатаются в контексте идеологического противостояния сторонников и противников Чернышевского. В статьях преобладает острый полемический дискурс и особое внимание уделяется именно философским и этическим воззрениям Чернышевского, а не специфике формы, в которой эти идеи представлены. Задается тенденция, которая будет доминировать в работах о писателе и до настоящего времени – рассмотрение художественного творчества Чернышевского как (явления) общественного, исторического, философского и уже только во вторую очередь литературного процесса. Во-вторых, сам характер появления отзывов можно определить как «стихийный». На начальном этапе своего формирования, до выделения в конце 1920-х гг. в область академической науки, чер-нышевсковедение было еще не столь жестоко ограничено идеологическими рамками, как полвека спустя. Главными характеристиками первого периода можно, таким образом, считать стихийность появления отзывов на роман и их непосредственную связь с идеологическим противостоянием, наблюдавшимся в русской критике 1860 – 1870-х гг.
Почти сразу же после публикации роман «Что делать?» был запрещен, и, соответственно, критическое отзывы о книге больше не появлялись. И хотя в истории общественной жизни страны роман сыграл огромную роль, явившись катализатором революционных настроений в последние десятилетия XIX в., с точки зрения литературоведения эти годы были затишьем, продлившимся несколько десятилетий. Затем, уже после снятия цензурных запретов в первое десятилетие ХХ в., «редкая книжка журнала <обходилась> без статьи о деятельности Чернышевского», т.к., по замечанию современника, «мы пережили время вторичного «цензурного террора», и русская печать, получив некоторую свободу, тотчас же вспомнила о своем лучшем представителе и идейном борце» [Денисюк 1908: II]. Обилие «сырого биографического материала» [там же], а также появление опасных, не соответствующих
«линии партии» трактовок жизни и творчества писателя, обозначило необходимость официального закрепления единственно верного взгляда на Чернышевского, «знаменитого ученого и родоначальника русского социализма» [Николаев 1919: 5].
Советский период. Работы Г.В.Плеханова и А.В.Луначарского, определявшие интеллектуальный и художественный курс нового Советского государства, закрепили за Чернышевским место «одного из замечательнейших в нашей великой литературе писателей-беллетристов» [Луначарский 1957: 214]. Плеханов в книге «Н.Г.Чернышевский» говорил о вторичности философских концепций Чернышевского, что не нашло одобрения у Ленина, поэтому программной статьей для литературоведов этого периода стала статья Луначарского «Н.Г.Чернышевский как писатель».
Большая часть работ о Чернышевском, созданная с конца 1920-х и до начала 1990-х гг., ориентирована на статью Луначарского и развивает предложенные в ней темы. Причиной этого являются как особый характер всей литературной критики этого периода, так и оригинальный, а главное комплексный, анализ, представленный в этой статье. Несмотря на устаревший аналитический аппарат и очевидную идеологическую тенденциозность статьи, Луначарский делает достаточно тонкие наблюдения. Критик трактует «Что делать?» подчеркнуто не «редукционист-ски», не сводя художественный текст к функции иллюстрации художественных идей, отмечая, например, особый психологизм романа: «Возьмите третий сон, в котором рассказывается, как Вера догадывается, что она любит больше Лопухова. Это почти фрейдовская тонкость работы, но без фрейдовских извращений» [Луначарский 1957: 231]. Не менее важно и то, что в этой статье окончательно закрепляется мученический, жертвенный образ Чернышевского, по словам Т.Стоппарда, «одного из ранних святых большевистского календаря» [Стоппард 2006: 414].
Риторически статья задает особый тон последующим работам о Чернышевском. Следуя манере изложения, типичной для Ленина, Луначарский говорит о Чернышевском как об «учителе», ставя его в один ряд с К.Марксом и Ф.Энгельсом. Собственный стиль Луначарского (подчеркнуто разговорные обороты, анафорич-ность, синтаксический параллелизм, частое использование местоимения «мы», «нас», «нам» и т.д.) отражает идеологический характер статьи, решающей сразу две задачи: определить положение Чернышевского в нарождающемся советском литературном каноне и обозначить важ- ность его фигуры в идеологическом плане. Статья Луначарского определила характер большинства будущих работ о Чернышевском, став своеобразным «коренным» текстом, в котором была сформулирована идеологическая парадигма, в рамках которой следовало трактовать как фигуру автора, так и его произведения. Идеи, намеченные Луначарским, развивались в дальнейшем уже другими авторами.
В советский период также выделяется ряд академических работ о Чернышевском, ставших классическими. В таких работах сформировалась научная парадигма изучения творчества писателя, были разработаны методологии научного подхода к текстам. В этот ряд включены работы А.П.Скафтымова, С.А.Рейсера и Б.Я.Бухштаба, М.Т.Пинаева, Н.Ю.Тамарченко, Г.Е.Фрид-лендера, Е.И.Покусаева, А.А.Лебедева, Л.М.Лот-ман, Ю.К.Руденко, Н.А.Вердиревской. Монографические исследования данного периода позволяют современным исследователям опираться на полную фактологическую и историческую базу сведений о Чернышевском и его творчестве. Эти работы сохраняют свою актуальность и сейчас, хотя и требуют от современного исследователя использования особого читательского «фильтра» при обращении к ним – все тексты о Чернышевском, вне зависимости от их научной ценности, опубликованные в Советском Союзе в указанный период, написаны в заданной Луначарским дискурсивной традиции.
Если работы предыдущего периода появлялись, повинуясь логике литературного процесса, то в советский период выпуск работ о Чернышевском происходил уже в «промышленном» масштабе, выделившись в специальную область литературоведения, подобно пушкинистике. Э.Дрозд, анализируя корпус научных и критических текстов о Чернышевском с точки зрения отражения в них специфики художественности произведений писателя, выделяет три основных этапа в истории развития науки о Чернышевском в этот период. Первый, с точки зрения исследователя, определяется взглядами Ленина и представлен работами Плеханова и Луначарского. В 1920-м начинается систематическое научное изучение Чернышевского и его наследия – выходят работы А.Скафтымова и В.Гиппиуса, формируется так называемая «саратовская школа». В 1928-м, в год столетия со дня рождения писателя, публикуются архивные документы, воспоминания современников, создаются новые комментарии. Однако тогда же начинаются для отечественного литературоведения «темные времена» идеологизированных статей, слоганов и «ритуального цитирования Ленина». После смерти
Сталина появился ряд серьезных академических работ по текстологии (С.А.Рейсер, Б.Я.Бухштаб), научных монографий (А.А.Лебедев), а к 1960-м – 1970-м гг. интерес исследователей сфокусировался на вопросах поэтики. В последующее десятилетие, в 1980-е гг., выходили работы о роли автора в романе, хронотопе, интертекстуальности «Что делать?», т.е. исследователи работали уже в рамках новых методологических подходов (статьи Т.И.Дубровиной, Е.А.Подшиваловой и др. [Drozd 2001: 2–5]). Такие работы концептуально относились к следующему, постсоветскому периоду, но все еще сохраняли следы советской риторики.
С течением времени меняется и методология исследователей: со второй половины 60-х гг. ученые начинают активно пользоваться разработанным аппаратом структурного анализа (например, В.Руденко, Н.А.Вердеревская, Л.М.Лот-ман, М.В.Теплинский, В.В.Прозоров и др.). В первой половине двадцатого века советское литературоведение занималось исследованием идеологических аспектов творчества и философской концепции автора, за исключением некоторых монографических исследований, представляющих более полный анализ текстов, их генетических связей с произведениями русской и мировой литературы (в частности, работы А.П.Скафтымова), используя методологию культурно-исторической школы и сравнительного литературоведения. Во второй половине двадцатого века ученые обращаются к структурному анализу текстов: исследования структурных аспектов романов и повестей Чернышевского выходят как в сборниках, посвященных проблемам истории и развития романа второй половины девятнадцатого века, так и в виде монографий, комплексно освещающих проблемы творчества автора.
Таким образом, в советский период развития науки о Чернышевском оформились как идеологическая (1920 – 1930-е гг.), так и научная парадигмы, в рамках которых создавалась большая часть научно-критических текстов о писателе. Если работа выходила за рамки предлагаемых трактовок, то публикация ее была невозможна. Такой же «селекционный» отбор проводился и в отношении текстов самого Чернышевского и мемуарных отзывов. А.А.Демченко приводит пример из истории формирования сборника «Н.Г.Чернышевский в воспоминаниях современников», из которого были изъяты воспоминания Ф.М.Достоевского и «астраханца Н.Ф.Скорикова, воспоминания которого о скептическом отношении Чернышевского к революционным пристрастиям современной молодежи не вписывались, по мнению руководства издательства, в привычное по тем временам истолкование деятельности Чернышевского как револю-ционера-подпольщика»1 [Демченко 2002: 259]. Приоритетным направлением исследований по-прежнему оставался анализ политических и философских взглядов писателя, а тщательное изучение его художественных текстов как литературоведческая практика окончательно утвердилось лишь в 1980-е гг. Характер появления работ перестает быть стихийным. Выпуск научных и критических трудов о Чернышевском становится частью более масштабного процесса – формирования идеологической политики государства.
Постсоветский период. Переломным моментом, ознаменовавшим начало нового, постсоветского периода в развитии науки о Чернышевском, стал выход в 1990 г. сборника под редакцией Н.К.Ломунова «“Что делать?” Н.Г.Чернышевского. Историко-функциональное исследование» (1990). Впервые в Советском Союзе в сборнике были объединены работы, рассматривающие роман «Что делать?» и фигуру Чернышевского с точки зрения современной науки, в которой приоритет был отдан анализу художественной специфики произведения, а идеологическая риторика отошла на второй план. Подводится итог изучению творчества Чернышевского в советский период: описываются кропотливая работа над текстами, публикация которых подчинялась идеологическим установкам, особенности толкования произведений в условиях политического давления и пр. Таким образом, академической науке о Чернышевском был задан курс на объективность настолько, насколько достижение ее вообще возможно в рамках гуманитарных наук.
Особенно важным было то, что с подобными статьями выступили специалисты по творчеству Чернышевского, ученые, знакомые с проблемой изнутри. Выход и содержание этого сборника свидетельствовали о том, что научная парадигма исследований предыдущего периода определялась идеологической. Как только появилась возможность рассматривать произведения Чернышевского с сугубо научной точки зрения, выяснилось, что интерес ученых естественным образом тяготеет к вопросам поэтики, художественной специфики, особенностям дискурса, стиля, образной системы текстов писателя и т.д.; что характерный для советского периода перевес исследований о политических взглядах и философской системе Чернышевского объясняется внешними, надлитературными, идеологическими причинами. Начало новому этапу развития академической науки о Чернышевском было положено.
Следующим знаковым событием стала публикация научного труда А.А.Демченко «Н.Г.Чер-нышевский. Научная биография» (1978–1994), главное монографическое исследование нового времени в отечественном чернышевсковедении. Первая полная биография Чернышевского, книга Демченко, создавалась на протяжении почти двадцати лет. Важной особенностью, отличающей эту работу от биографических сочинений советского и досоветского периода, является ее подчеркнуто объективный характер. Именно поэтому публикация всех четырех томов научной биографии стала возможна только в 1994 г. В томе биографии, посвященном времени написания романа «Что делать?», подробно описываются исторические события, без понимания и объективной оценки которых невозможно исследование творчества Чернышевского современной наукой: условия заключения писателя в Петропавловскую крепость, во время которого родился замысел и был создан роман «Что делать?», ход судебного процесса, удивительная ситуация, сложившаяся в цензурном отделении и особое положение Чернышевского как политического заключенного, приведшие в результате к публикации романа в «Современнике» с одобрения цензуры [Демченко 1992]. В 2008 г. А.А.Демченко выпустил антологию в серии «Русский путь» «Н.Г.Чернышевский: pro et contra. Личность и творчество Н.Г.Чернышевского в оценке русских писателей, критиков», в которой собраны отзывы и мемуары современников писателя о его личности, творчестве, литературноэстетических и философских взглядах, романе «Что делать?». В этом сборнике впервые представлены полярные мнения современников о Чернышевском, что позволяет получить представление как о досоветском периоде развития чернышевсковедения, так и об истоках «мифа» о Чернышевском, начавшего складываться еще при его жизни [Демченко 2008]. Под руководством А.А.Демченко в 2006 г. Т.М.Метласовой была защищена кандидатская диссертация на тему «Интертекстуальность, реминисценции и авторские маски в романе Н.Г.Чернышевского «Повести в повести». В Саратовском государственном университете в сотрудничестве с Музеем Н.Г.Чернышевского с периодичностью в три-пять лет выходят сборники научных трудов, посвященные Чернышевскому: «Статьи, исследования и материалы» (последний на сегодняшний день, 15-й выпуск, – в 2004 г.). Таким образом, к настоящему времени в академической науке установился четкий курс на объективное изучение жизни и трудов Чернышевского в контексте но- вейших литературных практик. Такое положение установилось, однако, далеко не сразу.
С приходом «гласности», ознаменовавшей также наступление эпохи относительной объективности в гуманитарных науках, противоречивое отношение исследователей и читателей к писателю обрело свой «голос». Свою роль в формировании нового облика Чернышевского сыграл и впервые опубликованный в России в 1988 г. и ставший доступным широкому читателю роман В.Набокова «Дар», в котором Чернышевский – не самая привлекательная фигура. В постсоветской России ряд исследователей ставили вопрос о целесообразности изучения Чернышевского, об актуальности его работ в условиях современной жизни [Кантор 2000: 157–180], другие – выступали в его защиту, отстаивая в лице Чернышевского права всех авторов, история жизни которых была искажена неверными, идеологически предубежденными трактовками [Кондаков 1997: 49–59]. В условиях такого «междуцарствия» появляются работы об очевидных, но ранее по понятным причинам не исследованных особенностях творчества писателя: библейских аллюзиях и религиозных мотивах (докторская диссертация В.Л.Сердюченко «Достоевский и Чернышевский в русской духовно-литературной ситуации второй половины 19 века», 1999), статьи В. Сахарова «Что делать с утопией Чернышевского?», Н.Назарова «Интеллигенция в «Что делать?»: Born to Be Wild», В.Г.Щукина «Блеск и нищета позитивной эрoтологии (к концепции любви у Н.Г.Чернышевского)» и др.
К началу 2000-х гг. стало очевидным, что существует определенная разница между подходом к изучению Н.Г.Чернышевского в академической науке, где после публикаций Н.К.Ломунова и А.А.Демченко был устранен существовавший ранее «зазор» между научной и идеологической парадигмами, и в критике. Для критиков и публицистов Чернышевский оставался спорной фигурой, советским артефактом с «перчинкой» (см., например, статью Н.Пушкаревой «Нездоровая одержимость»1 об особенностях сексуального поведения Чернышевского, Писарева и пр.). Спустя десятилетие подобный разрыв, как нам кажется, сократился не в последнюю очередь благодаря статье П.Вайля и А.Гениса «Роман века» в книге «Родная речь. Уроки изящной словесности» (1991), утверждающей новый, переосмысленный статус Чернышевского в современной российской культуре. Вайль и Генис ставят вопрос, поиски ответа на который, очевидно, и являются причиной появления большинства вышедших в эти годы ненаучных журнальных публикаций: «Как вышло, что едва ли не худшая из известных русских книг стала влиятельнейшей русской книгой?» [Вайль, Генис 1994: 185]. В статье кратко и четко суммируются все несоответствия официального мифа о Чернышевском, «Что делать?» реальной истории жизни автора и непосредственно текста романа: представление о «Что делать?» как об учебнике жизни, преобладание в книге любовной темы, подчёркнуто ироническое отношение автора к героям, построение образа «революционера-безбожника» и нигилиста Рахметова по канонам жития святых и т.д.
Особенно интересную группу научных текстов представляют работы, в которых творчество Чернышевского анализируется в контексте кросс-культурных исследований, как часть общей, национальной литературы и культуры. А.Эткинд в книге «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001) посвящает героям Чернышевского главу «Секс и секты в телах и текстах: где был Рахметов, пока не вернулся Шатовым?». Через исследование «американского сюжета» в «Что делать?» Эткинд раскрывает особенности философской концепции Чернышевского, а также приводит дополнительные сведения, подтверждающие сложившуюся в современном литературоведении оппозицию Чернышевский / Достоевский [Эткинд 2001: 55–114]. В рамках этой оппозиции творчество Чернышевского рассматривается и в книге А.А.Арустамовой «Русско-американский диалог XIX века», в главе «Ф.М.Достоевский VS Н.Г. Чернышевский: полемика о Новом Свете и русском человеке» [Арустамова 2008: 306–325]. Литературное «позиционирование» Чернышевского по отношению к другим писателям, чья историческая судьба оказалась не столь зависима от соображений идеологии, является важным аспектом формирования образа и представлений о писателе в современной науке и критике. Рассматривая творчество Чернышевского в контексте диалога культур, исследователи утверждают принципиальность его присутствия в обновленном российском литературном каноне, подтверждая ключевую роль, которую творчество Чернышевского сыграло в развитии национальной литературы.
Зарубежное литературоведение. В западном литературоведении и литературной критике Чернышевскому уделяется на так много внимания – интерес большинства исследователей традиционно привлекал его современник А.И.Герцен. Тем не менее имя Чернышевского неизменно появляется на страницах книг, посвященных истории и культуре России, особенно в трудах, освещающих революцию и ее идейные истоки
(И.Берлин). Поскольку Чернышевский и его труды использовались советской пропагандой как оружие в идеологической борьбе, статус главного большевистского писателя и «родоначальника русского социализма» во многом обусловил отношение к нему зарубежных ученых. Суждения критиков о писателе часто основываются на оценке его политической программы (Н.Г.О.Перейра, Г.О.Норман).
В ряду монографических работ следует отметить книгу Френсиса Б.Рэндалла «Н.Г.Черны-шевский» (1967), в которой представлен взвешенный, объективный анализ как творчества Чернышевского, так и роли писателя в русской истории. Не ограниченный идеологическими рамками марксизма, ученый уже в 1967 г. отмечает очевидные параллели между образом Рахметова и Иисусом Христом, который у Чернышевского, как позднее и у Блока, становится «символом революционного освобождения» [Randall 1967: 111].
Искаженному восприятию образа Чернышевского на западе способствовала не только позиция, занимаемая им в культуре Советского Союза, но и отсутствие грамотного перевода «Что делать?». В статье «Английские переводы “Что делать?”» Майкл Кац, автор нового научного, вышедшего в 1989 г. перевода, говорит о том, что при работе с романом переводчики часто пытались реализовать еще и политические задачи и в результате получившийся текст часто оказывался очень далеким от оригинала [Katz 1987: 125–128].
Если рассматривать специфику освещения фигуры и творчества Чернышевского в зарубежном литературоведении с точки зрения используемой методологии, становится очевидным, что особое внимание Чернышевскому уделяли неомарксисты, например Фредерик Джеймисон в книге «Политическое бессознательное», и исследователи гендерных общественных практик – отдельная глава посвящена «Что делать?» в работе об адюльтерном романе Джудит Армстронг.
Характерной чертой зарубежных исследований является тенденция вписывать творчество Чернышевского и его философские концепции в широкий контекст российской литературы и философии. Исайя Берлин, например, считает роман «Что делать?» катализатором русской революции. В результате основным направлением исследований (пик которых пришелся на 1960 – 1970-е гг., период повышенного интереса к России) стал анализ романа «Что делать?» не как текста, а как факта социокультурной жизни России конца XIX – начала XX в.
Однако в последние десятилетия ситуация стала меняться. Перелом, произошедший в отечественной науке о Чернышевском в связи с ослаблением идеологического контроля, нашел свое отражение и в зарубежной литературе о писателе. Первой работой нового времени в зарубежном литературоведении стало исследование И.Паперно «Семиотика поведения: Николай Чернышевский – человек эпохи реализма» (1988). Ученица Ю.М.Лотмана, И.Паперно впервые начала работать над исследованиями о Чернышевском еще в 1977 г. в университете г.Тарту. Позднее, в 1996 г., ее книга вышла на русском языке в авторизованном переводе. Особую ценность данному исследованию придает его подчеркнуто объективный подход к трактовке личности и творчества писателя. Хотя основное содержание книги составляет анализ личности Чернышевского, направленный на воссоздание истинной истории его жизни, очевидно отличной от мифа, созданного и утверждаемого советской идеологией, в третьем разделе – «Тексты» – рассматриваются художественные и публицистические работы Чернышевского. Особое внимание уделено «Что делать?» как ключевому тексту. Паперно анализирует архитектонику романа, повествовательную и риторические техники, систему персонажей и христианскую символику. По сути, в своей книге И.Паперно, как и другие наиболее проницательные современные исследователи творчества Чернышевского, пытается ответить на вопрос, сформулированный чуть ранее П.Вайлем и А.Генисом: «Как объяснить силу воздействия Чернышевского и его романа на современников?». Ответ находится в «плодотворном использовании активной творческой энергии художественной структуры», а также уникальной универсальности, свойственной как взглядам писателя, так и форме их выражения: «…секрет влияния Чернышевского лежит также в присущем его мышлению и его роману уникальном смешении и интеграции различных течений и традиций, имевших большое значение для его времени: русского православия, французского христианского социализма, левого гегельянства, английского утилитаризма, позитивистского научного подхода к жизни, эстетики реализма и остатков идеализма и романтизма» [Паперно 1996: 185]. Идентификация сложных компонентов, составляющих специфику текстов Чернышевского, – важная ступень в формировании нового подхода к изучению творчества писателя. Замечания подобного характера высказывались отечественными учеными в отдельных публикациях последних лет, однако в работе И.Паперно комплексные наблюдения были впервые пред- ставлены в рамках монографического исследования.
Факт перевода и выхода в свет данной книги на русском языке в 1996 г. был исторической вехой в развитии чернышевсковедения сразу с двух точек зрения. Во-первых, широкому кругу читателей предлагалось пересмотреть свои взгляды на фигуру Чернышевского, вниманию читательской публики был представлен объективный анализ его творчества, демонстрировалась как очевидность сконструированности образа писателя в советскую эпоху, так и то, насколько далеко этот образ отстоял от реальности. Во-вторых, с появлением книги И.Паперно стало ясно, что выстроенного и поддерживаемого идеологическими средствами барьера между отечественным и зарубежным литературоведением больше не существует и не принимать во внимание зарубежные исследования по славистике уже не представляется возможным в условиях современных литературоведческих практик.
В советский период не только толкование фигуры Чернышевского и его творчества использовалось как идеологическое оружие. Зарубежные исследования творчества писателя не всегда оставались недоступными отечественным исследователям, однако рассматривались они исключительно с идеологических позиций. Типичным примером такого подхода служит, например, статья А.Сигрист «Фальсифицированный Чернышевский: стереотипы и новации» [Сигрист 1971: 130–145]. Итогом такой изоляции становилась необходимость заново «открывать» уже давно описанные вещи: так, например, одним из ключевых моментов научной новизны в работах В.Л.Сердюченко является выделение и анализ в текстах Чернышевского христианской символики [Сердюченко 2001: 66–84 ]. Не умаляя значения научной работы исследователя, стоит отметить, что в работах Юлии Алиссандритос о генетических связях «Что делать?» с древнерусской литературой эта проблема ставилась еще в начале 1980-х гг. [Alissandritos 1982: 103–117].
Сегодня ключевым текстом зарубежного литературоведения, знакомство с которым является необходимостью для современных исследователей творчества Чернышевского, является книга Эндрю М.Дрозда «“Что делать?” Чернышевского: переоценка», вышедшая в свет в 2001 г. В своем исследовании Э.Дрозд исходит из того, что «роман Чернышевского последовательно прочитывался неверно как противниками, так и сторонниками, большей частью именно из-за отказа видеть в нем литературный текст. Однако, если «Что делать?» рассматривать прежде всего как литературное произведение, читателю при- дется делать выводы, которые сильно отличаются, от традиционных» [Drozd 2001: Х]. Именно с такой «ревизионистской» позиции исследователь и подходит к анализу романа. Главным достоинством данной работы является то, что в ней в рамках монографического труда представлены новейшие наработки чернышевсковедения, проанализированы и суммированы исследования современных ученых, сформулирован и последовательно применен новый подход к исследованию «Что делать?» именно как литературного произведения. Дрозд рассматривает различные аспекты специфики художественного метода Чернышевского: взаимоотношения искусства и реальности и отражение эстетической концепции в творчестве писателя, особый язык романа, оппозицию автор / читатель, взаимодействие идеологии и художественности, построение образа Рахметова, а также политическую и экономическую платформы писателя. Книга А.Дрозда имеет все шансы стать для современного чернышев-сковедения аналогом статьи Луначарского, «коренным» текстом, в котором намечены перспективы дальнейших исследований. Так, ученый не рассматривает детально особенности жанра «Что делать?» и особенности игровой поэтики произведения, однако указывает на их определяющую роль. Исследование Эндрю Дрозда демонстрирует, что идеологическая трактовка творчества Чернышевского не только препятствовала правильному понимаю политических и философских взглядов писателя, но и повлекла за собой неверное толкование художественной специфики его произведений. Более того, книга Дрозда утверждает за романом «Что делать?» статус сложного, синтетического текста, в трактовке которого возможны значительные вариации.
Один из ключевых текстов русской литературы и культуры, «Что делать?» представляет особый интерес для современного литературоведения 2. Фундаментальные изменения, происходившие в чернышевсковедении за его более чем стопятидесятилетнюю историю, требуют систематизированного описания. Анализ специфики развития науки о Чернышевском является непременным условием для определения места и роли писателя в современном литературном каноне, а также в истории отечественной и мировой литературы.
Perm State University
Список литературы Проблемы освещения романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» в научной и критической литературе (1863-2010)
- Арустамова А.А. Русско-американский диалог XIX века: историко-литературный аспект/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2008. 590 с.
- Вайль П., Генис А. Родная речь. М.: Независимая газ., 1994. 269 с.
- Вайсман М.И. «Что делать» Н.Г. Чернышевского и «Калеб Вильямс» У. Годвина: типологическое параллели//Вестн. Перм. ун-та. 2010. №5(11). С.104-110.
- Валентинов Н. Недорисованный портрет. М.: Терра, 1993. 560 с.
- Гуральник У.А. Наследие Н.Г.Чернышевского-писателя и советское литературоведение. M.: Наука, 1980. 263 с.
- Демченко А.А. Н.Г.Чернышевский: pro et contra. СПб.: РГХА, 2008. 752 с.
- Демченко А.А. Памяти М.И. Перпер//Новое лит. обозрение. 2002. № 53. С.258-261.
- Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография: в 4 т. Саратов, 1978-1994.
- Денисюк Н.Ф. Николай Гаврилович Чернышевский: Его время, жизнь и сочинения. М.: Изд-во А.С. Панафидиной, 1908. 196 с.
- Кантор В.К. Срубленное дерево жизни. Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском?//Октябрь. 2000. №2. С.157-180.
- Кондаков И.В. От истории литературы -к поэтике культуры//Вопр. лит. 1997. №2. С.49-59.
- Луначарский А.В. Статьи о литературе. М.: ГИХЛ, 1957. 736 с.
- Набоков В.В. Дар. М.: Азбука, 1997. 416 с.
- Николаев А.А. Николай Гаврилович Чернышевский. Знаменитый ученый и родоначальник русского социализма. Его жизнь и труды. Ярославль: ИЯКСК, 1919. 61 c.
- Паперно И. Семиотика поведения: Николай Чернышевский -человек эпохи реализма. М.: НЛО, 1996. 207 с.
- Пушкарева Н. Нездоровая одержимость//Новая юность. 2002. № 32 (3). URL: http://magazines.russ.ru/nov_yun/2000/3/anamnez.html (дата обращения: 22.01.2011).
- Сердюченко В. Футурология Достоевского и Чернышевского. Князь Мышкин и Рахметов как ипостаси Христа//Вопр. лит. 2001. №3. С.66-84.
- Сигрист А. Фальсифицированный Чернышевский: стереотипы и новации//Вопр. лит. 1971. №1. С.135-140.
- Стоппард Т. Берег утопии. М.: Иностр. лит., 2006. 480 с.
- Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М.: НЛО, 2001. 483 с.
- Alissandritos J. Hagiographical commonplaces and medieval prototypes in N.G. Chernyshevsky's What Is to Be Done?"//St. Vladimir's Theological Quarterly. 1982. 26, No. 2. P.103-117.
- Drozd A. Chernyshevskii's What Is to Be Done: A Reevaluation. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2001. 332 p.
- Katz M. Chernyshevsky in English translation//Slavic Review. 1987. 46, No. 1. P.125-128.
- Randall F.B. N.G. Chernyshevskii. New York: Twayne, 1967. 178 p.