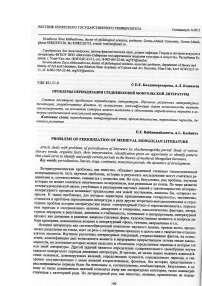Проблемы периодизации средневековой монгольской литературы
Автор: Балданмаксарова Елизавета Ешиевна, Кошелева Альбина Леонтьевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: SA, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам периодизации литературы. Изучение различных литературных тенденций, упорядочивание фактов, их осмысление, классификация дают возможность выявить закономерности, на основании которых можно выделить и обосновать определенные периоды в истории средневековой монгольской литературы.
Периодизация, литературный этап, преемственность, переходные периоды, динамика развития
Короткий адрес: https://sciup.org/148181295
IDR: 148181295 | УДК: 821.51.0
Текст научной статьи Проблемы периодизации средневековой монгольской литературы
Литературоведческие проблемы, как известно, обладают различной степенью гносеологической исчерпываемости. Есть научные проблемы, которые в результате исследования могут считаться решенными и, соответственно, снимаются с повестки дня. Но есть, безусловно, ряд проблем, изучение которых не может считаться окончательно исчерпанным, или решенным до конца. По мере развития литературоведческой науки, углубления и расширения научных знаний о закономерностях историко-литературного процесса возникают предпосылки для новой постановки, казалось бы, «старых» вопросов. К таким проблемам, для которых характерна принципиальная «открытость», несомненно, относится и проблема периодизации литературы в ряду других теоретико-методологических и структурных проблем истории литературы как науки: «литературный этап» и «преемственность», переходные периоды и «пограничные» явления, диахрония и синхрония, идеологические факторы, литературные иерархии и репутации, динамика и стабильность, понимание и интерпретация, литературный процесс как движение и развитие жанрово-стилевых форм, художественная ценность и вопросы выбора критериев, доминантные явления и литературный «фон», течения, направления и т.п.
История литературы как системообразующий компонент научного знания, прежде всего, предполагает разделение на этапы, идет ли речь о литературном процессе в целом или о творчестве отдельно взятого писателя. Изучение различных литературных тенденций, упорядочивание фактов, их осмысление, классификация дает возможность выявить в непрерывно прирастающем потоке некие закономерности, на основании которых можно выделить и обосновать определенные периоды в истории той или иной литературы. Другой задачей является определение содержательного своеобразия внутри каждого конкретного периода движения литературы. В-третьих, не менее важно выявить взаимодействие основных, доминирующих явлений, определяющих сущность определенного периода, и синхронно сосуществующих с ними явлений второстепенных, фоновых, без которых представление о рассматриваемом периоде было бы неполным и, соответственно, необъективным. Безусловно, к одному из таких доминантных явлений относится жанр как литературная категория, тесно взаимодействующая с категорией рода. Но литературный род, как известно, явление, практически не подвер- женное историческим изменениям, по сути своей вневременное, тогда как виды (жанры) литературы, в которых и проявляется родовая сущность эпоса, лирики и драмы, изменчивы и потому, они, как правило, и определяют сущностное ядро литературной эпохи.
Проблема периодизации литературы всегда сохраняла свою животрепещущую актуальность для всех, кто занимался изучением процесса исторического развития словесности монгольских народов, ибо конечная цель периодизации заключается в более глубоком и широком изучении динамики развития, что позволяет абстрагироваться от конкретных реалий и подробностей. И еще, безусловна приблизительность вычленения этапов развития художественно-исторического движения, ведь, по существу, периодизация - это способ структурирования и, тем не менее, ее нельзя превращать в какую-то схему. Однако, членение историко-литературного отрезка на эпохи, этапы, периоды, вехи, срезы и др., богатого в содержательном плане, многосоставного и многоуровневого, способно внести упорядоченность в темпоральную непрерывность, где каждый временной отрезок обусловлен предыдущим и предопределяет последующий. В каждом из периодов важно обозначить генерализирующую тенденцию, специфическую как для данного объективного времени, так и для анализируемого процесса в целом.
Для литературы монгольских народов пальма первенства в определении периодизации принадлежит Осипу Михайловичу Ковалевскому (1800-1878), одному из основателей монголоведения как науки в России, выдающемуся монголоведу первой половины XIX в. Он в совершенстве знал не только язык и литературу, но и в целом культуру монгольских народов. Из отчета о состоянии Казанского Императорского университета за 1842-1843 гг. узнаем, что О.Ковалевский «окончил ныне второй и последний том истории монгольской литературы, которые будут совершенно новым явлением в области восточной словесности» [17, с. 89]. К сожалению, эта работа не была опубликована, и она вместе с рукописями «История буддизма», «Путешествие в Монголию и Китай» в шести томах и другими погибла в Варшаве во время пожара 1863 года. Выделяя периоды в развитии литературы монгольских народов, он писал, что «при внимательном взгляде на <...> письменные памятники монголов легко заметить четыре элемента» [8, с. 4], которые он определил как номадный, индийско-тибетский, китайский и европейский. Действительно, необходимо отметить, что большую роль в становлении и развитии средневековой монгольской литературы сыграли иноязычные влияния, а также процессы взаимодействия и взаимовлияний, в результате которых происходит обогащение и развитие национальных литературных традиций. Несомненно, прав Ковалевский, связывая развитие монгольской литературы влиянием других более развитых литератур. Свидетельством того, что периодизация Ковалевского не утратила и сегодня своей значимости и продолжает работать, является книга А.Д. Цендиной о повествовательных традициях монгольских летописей, рассмотрение которых всецело основано вслед за Ковалевским на «проблеме влияния иноязычных письменных традиций» [15, с. 9].
Безусловно, весом вклад в востоковедную науку петербургской школы монголоведов. Именно ее представителями были заложены основы классического монголоведения в России. Начало XX в. можно отметить как время расцвета петербургского монголоведения, связанного с именами А.М. Позднеева, В.Л. Котвича, А.Д. Руднева, Н.Н. Поппе, Ц.Ж. Жамцарано, Б.Барадина, С.А. Козина, С.Д. Дылыкова и др., которые представляли основные направления монголоведной науки. К этой замечательной категории ученых относится крупнейший монголовед, академик Борис Яковлевич Влади-мирцов (1884-1931). Оставленные им фундаментальные исследования, публикации литературных и фольклорных текстов, а также переводов способствовали становлению и развитию монгольского литературоведения. В своих трудах, посвященных литературе общемонгольского периода, Б.Я. Влади-мирцов уделял внимание не только исследованию важнейших проблем истории литературы, но и обозначил пути их дальнейшего изучения. В ряду литературоведческих работ своей фундаментальностью выделяется статья «Монгольская литература» (1920), ставшая на сегодня хрестоматийной.
В ней впервые в истории монгольской литературы автор попытался обобщить весь имеющийся к тому времени материал и рассмотреть эволюцию монгольской литературы, причем в неразрывной связи с историческими изменениями в монгольском обществе. Владимирцов поднимает вопрос о «малой известности монгольской литературы», «об отношении монголов к своей письменности, литературе», более того, именно с этих вопросов начинает статью, что является весьма показательно, ведь за сорок лет после выхода монографии А.М. Позднеева (1880) монгольская литература серьезно не изучалась в России. И причины малоизвестности он видит, во-первых, в историко-географическом расположении монгольских народов, «разбросанном на огромном пространстве от Дона до Великого океана, от реки Лены до тибетской столицы, войдя в состав нескольких государственных организаций» [6, с. 59]. Во-вторых, он указывает еще на одно обстоятельство, которое повлияло на духовную жизнь, в целом и на культуру монгольских народов - принятие буддизма в форме «гелугпы»1, возникшего в Тибете XIV в., благодаря которому монголы вовлекаются в индо-тибетский культурный мир. «За последние двести лет, - отмечает Б.Я. Владимирцов, - из среды монголов вышло много выдающихся писателей, литературных деятелей, писавших по-тибетски и получивших большую известность в самом Тибете. Если прибавить к этому, что очень значительное количество произведений, написанных на монгольском языке, входящих в обычный круг чтения монгольского грамотея, являются переводами с тибетского, то совершенно нечему удивляться, что даже хорошо образованные монголы считают тибетскую литературу своей, своей национальной, и, даже любя свою старину и свою письменность, интересуются только тибетской литературой, а на свою монгольскую смотрят как на простое разветвление тибетской, как на ту же тибетскую литературу, только выраженную письменным, книжным монгольским языком, который, кстати сказать, довольно значительно отличается от живых монгольских наречий» [6, с. 59-60].
Его, как исследователя, волнуют вопросы, которые можно определить как ключевые - существует ли монгольская литература, можно ли признать за произведениями монгольской письменности право называться литературными? Размышляя над этими актуальными для развития монголоведения того времени проблемами, он отмечает, что «внимательный наблюдатель откроет любопытный мир, откроет особую литературу, и именно литературу, а не письменность кочевого народа, развивающуюся в совершенно особых, незнакомых культурным народам Европы и Азии, условиях» [6, с. 60]. Высоко оценивая «Сокровенное сказание монголов» (1240) с точки зрения художественной, Владимирцов подчеркнул, что это произведение «сразу возводит их письменность до степени литературы». И уточняет, что наряду с произведениями письменности появляется «настоящее литературное произведение, и притом самое интересное, самое яркое, с которым не может сравниться ни одно создание последующей монгольской литературы» [6, с. 60-61], так как «... ни один кочевой народ не оставил такого памятника, <...> который «так образно и детально рисует подлинную жизнь» [5, с. 8-9]. Безусловно, чрезвычайно важно его предположение о том, что «быть может, в эпоху расцвета монгольского народа, большего подъема его национальных сил, в эпоху создания могучей, железной и организованной империи и обширных завоеваний богатейших стран Востока, монголы создали и еще что-нибудь, быть может, у них появлялись и другие литературные произведения, определялись известные навыки, направления...» [6, с. 61].
По существу, с выходом данной работы Владимирцова был сделан серьезный шаг в разработке проблемы периодизации истории монгольской литературы. Это стало возможным благодаря качественно новой методологической базе литературоведческой науки в целом, основанной на принципах историзма и новому пониманию природы художественного сознания, а также введению в научный оборот новых историко-литературных материалов, создающих предпосылки для обобщающих исследований и позволяющих воссоздать реальную картину развития литературы.
Первый период назван им эпическим и совпадает со временем появления и функционирования Великой Монгольской империи (XIII-XIV вв.). К эпическому роду монгольской литературы автор относит исторические предания, героические и дидактические поэмы, а также пишет о существовании определенного литературного течения, «которое сумело блестяще выявиться в литературных произведениях» [6, с. 62]. Действительно, достойно сожаления, что от той литературы великого времени остались лишь обрывочно сохранившиеся случайно или благодаря усилиям соседних народов, произведения. Поскольку небольшая оставшаяся часть литературы того периода дошла до нас в летописных произведениях XVII-XVIII вв., Владимирцов призывает «относиться к ним с большой осторожностью, всегда имея в виду возможность позднейших искажений» [6, с. 62]. Совершенно справедливо утверждение ученого о том, что заложенные в XIII-XIV вв. литературные традиции продолжали развиваться на протяжении всех последующих периодов не только в собственно литературных произведениях, но и в дидактических, а также в степных уложениях и в исторических сочинениях, летописях.
Второй период, основываясь в основном на исторические материалы, Владимирцов именует «темным» (XV-XVI вв.) и, по его мнению, в это время замирает всякая литературная деятельность, ибо этот период тесно связан с падением монгольской династии в Китае (1368 г.). «Под напевы богатыр-
’Гелугпа- название одной из школ тибетского буддизма.
ских былин, — пишет Б.Я. Владимирцов, - забываются старинные «Сказания», под гул шаманского бубна забываются буддийские сутры; во время бесконечных наездов и кровавых междоусобных войн исчезают старые рукописи, гибнут безвозвратно памятники былой монгольской культуры, памятники литературного творчества» [6, с. 65].
Третий период (с XVII в. до революции 1921 г.) обозначен им как буддийский, ибо связан с распространением тибетского буддизма и маньчжурского господства. Конец XVI в. связан с укреплением монгольских ханств и племенных союзов и как следствие начинается возрождение монгольского общества, вызывая новые духовные потребности. Практически все монгольские племена ко второй половине XVII в. приняли тибетский буддизм, и Тибет становится для них обетованной страной, источником духовного света: с новой силой возрождается монгольская письменность, активно возобновляется литературная, а также переводческая деятельность. Именно в этот период формируется, по мнению Б.Я. Владимирцова, самобытный национальный характер монгольской литературы.