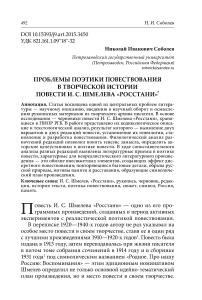Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелева «Росстани»
Автор: Соболев Николай Иванович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одной из центральных проблем литературы - научному описанию, введению в научный оборот и осмыслению рукописных материалов из творческого архива писателя. В основе исследования - черновики повести И. С. Шмелева «Росстани», хранящиеся в НИОР РГБ. В работе представлено их кодикологическое описание и текстологический анализ, результат которого - выявление двух вариантов и двух редакций повести, установление их генеалогии, становление и разработка повествования. Филологический анализ разночтений редакций позволил понять генезис замысла, определить авторские целеустановки в поэтике повести. В ходе сопоставительного анализа разных редакций выявлены литературные приемы в поэтике повести, характерные для неореалистического литературного произведения - это обилие внесюжетных элементов, создающих эффект дискретного повествования; повторяющиеся бытовые детали, образы русской природы, мотивы памяти и расставания, образующие символический план произведения.
И. с. шмелев, "росстани", рукопись, черновик, редакция, история текста, поэтика повествования, сюжет, символ, Россия, память
Короткий адрес: https://sciup.org/14748944
IDR: 14748944 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3450
Текст научной статьи Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелева «Росстани»
П о весть И. С. Шмелева «Росстани» — одно из его программных произведений, созданных в период активных экспериментов с реалистической поэтикой повествования.
В переписке 1920—1940-х годов автор не раз указывал на особое место повести в своем творчестве, ставя ее в один ряд с лучшими произведениями 1910—1920-х годов1. Повесть была издана в 1913 году, затем переиздавалась при жизни писателя в пятом томе собрания сочинений в 1914 году и в сборнике 1931 года2 под символическим названием «Родное. Про нашу Россию: Воспоминания» — этим эдиционным номинативом Шмелев определил не только основной идейно-тематический план произведения, но и место повести в своем творчестве.
В 1932 году повесть была переведена на немецкий язык, хотя немецкое издание состоялось только в 1955 году. Некоторые обстоятельства делового характера, связанные с историей немецкого перевода повести, известны из сохранившегося эпистолярия Ильина — Шмелева3: на протяжении 1931— 1932 годов писатель постоянно затрагивал эту тему, надеясь, что в перспективе европейский читатель познакомится с еще одной, значимой для писателя, гранью творчества; до начала 1930-х годов на европейские языки были переведены не более десяти его литературных текстов, из них только три — на несколько языков: «Человек из ресторана», «Неупиваемая Чаша», «Солнце мертвых».
В критике 1910—1930-х годов повесть оценивалась по-разному: Н. И. Коробка, А. Дерман, Н. Кульман, А. Савельев4 находили «Росстани» высоким образцом современной русской литературы, шедевром; Г. Адамович, напротив, примером безыскусного литературного бытовизма. Последнее послужило причиной небольшой, но жесткой полемики между Шмелевым и редакцией журнала «Современные записки»5, о которой коротко и эмоционально в письме Ильину рассказал Шмелев: «В 49 кн. Г. Адамович-содомович про “Родное” так написал, так непозволительно-глумливо, что я послал редакции веское письмо, спокойное, но веское. <…> О “Росстанях”… — история о “благополучии разбогатевших банщиков”…! Ах, идиот или… шулер. Ну, ладно. И “Росстани” мои ничего, останутся в русской литературе»6.
В современной критике о творчестве Шмелева общим местом является упоминание повести как одного из наиболее показательных неореалистических произведений; более детальному, хотя и неполному, анализу поэтики текста посвящены работы У. К. Абишевой [1], Л. Н. Кияшко [2], М. Ю. Трубицыной [4], М. А. Хатямовой [6], А. П. Черникова [7].
Необходимым дополнением указанных работ является исследование рукописных материалов из архива Шмелева в РГБ, которое дает возможность на основе построения научной генеалогии вариантов и редакций детально рассмотреть творческий процесс, понять генезис замысла, выявить авторские установки в ходе создания художественного мира повести.
Архивные материалы Шмелева, относящиеся к творческой истории повести «Росстани», представлены следующими источниками:
Ф. 387 (И. С. Шмелев), картон № 7, ед. хран. № 7.
Единица хранения представляет собой составную рукопись, условно разделенную на три части (а, б, в) и пронумерованную сотрудниками ОР полистно.
1 (а) . Л. 1—30 об., всего 30 л. Заглавия: «Сосѣди» (л. 1, 6; машинопись), «Рóзстани» (л. 1, написано от руки карандашом, подчеркнуто). Датирована: «Начато 30 апр. 1913» (л. 1; написано от руки карандашом, дата подчеркнута). Машинопись. Напечатана на 15-ти отдельных согнутых вдвое листах писчей бумаги. Листы имеют дополнительную нумерацию карандашом (кроме нумерации ОР): пронумерованы постранично л. 1—5 об. как с. 1—10, л. 6 об.—10 об. — как с. 11—19 (л. 6 пропущен при нумерации), л. 11—12 — как с. 21—23, л. 12 об. — как с. 20, л. 13—29 — как с. 24—56, л. 29 об. — как с. 59, л. 30—30 об. — как с. 57—58. Авторские маргиналии — арифметические подсчеты карандашом (л. 27, частично зачеркнуты). Авторская правка: на л. 1—18 об., 19 об.—30 об. карандашом и чернилами.
1 (б) (Разрозненные листы разных вариантов ) . Л. 31—45 об., всего 15 л. Заглавия (все машинопись): «Сосѣди. (Поминки.)» (л. 31); «Сосѣди»7 (л. 31 об.); «Рóзстани» (л. 32). Датирована: «29 апр. 1913 г.» (л. 31, машинопись, в начале текста); «11 мая 1913 г.» (л. 32, машинопись, в начале текста, подчеркнуто карандашом); «Май 1913 г.» (л. 35, написано чернилами от руки в конце текста). Машинопись. Напечатана на четырех отдельных согнутых вдвое листах писчей бумаги (л. 32 и 33, 38 и 39, 40 и 41, 42 и 43 рукописи) и семи половинах листов (л. 31, 34, 35, 36, 37, 44, 45). Л. 41 об. использован в перевернутом виде. На л. 34 стоит цифра «2», на л. 35 — «58» (чернила). На л. 35 в конце текста подпись: «Ив. Шмелев» (чернила). Авторские маргиналии —арифметические подсчеты карандашом (л. 31 об.). Авторская правка на л. 32—34, 35, 36, 38, 40—42 об. чернилами и карандашом.
-
1 (в) . Л. 46—46 об., всего 1 л. Без заглавия и датировки. Фрагмент оборванного снизу листа размером ок. 17 см. по горизонтали. Черновой автограф. На л. 36 карандашом от руки сделаны первоначальные наброски плана сюжета, на л. 36 об. —
список героев рассказа (чернилами). На л. 36 авторские маргиналии чернилами: числа, написанные в столбик: «51 // 50 // 53 // 54» (отдельные цифры зачеркнуты, снизу ряд оборван), арифметические подсчеты (в нижней части оборваны) и, возможно, библиотечный шифр хранения какой-то книги: «4.1.3.1».
Сохранность рукописи: в рукописи 1(а) сильное пожелтение бумаги, пятна неизвестного происхождения вдоль нижнего края и, особенно, во внешних нижних углах листов. В нижней части л. 1—2 у сгиба отверстия от скрепки. В рукописи 1(б) (Разрозненные листы) пожелтение бумаги во внешних нижних углах листов. Общее пожелтение бумаги, пятна неизвестного происхождения на л. 36—36 об., 38— 44 об. Небольшие разрывы на сгибе двойного листа, образующего л. 42 и 43 рукописи. Загрязнение бумаги вдоль краев л. 35 об.
Ф. 387 (И. С. Шмелев), картон № 7, ед. хран. № 8.
-
2 ) 1 л. обложки, л. 1—58 об., всего 59 л. Заглавие: «Рóзстани // Ивана Шмелева» (на листе обложки, машинопись, чернилами поставлен знак ударения и дописано окончание род. пад. в фамилии); «Рóзстани» (л. 1, чернилами поставлен знак ударения и начальная буква исправлена на заглавную). На обложке также указан адрес: «Москва, Житная, 10.» (машинопись). Датирована: «Май 1913 г.» (л. 58, чернилами, в конце текста). Машинопись. Напечатана на отдельных листах писчей бумаги (основной текст — только на лицевой стороне листов), не сложенных в тетрадь и не скрепленных между собой. Все листы рукописи, кроме обложки, пронумерованы чернилами8 в правом верхнем углу как л. 1—58; все листы включая обложку — в правом нижнем углу карандашом как л. 24—82. В конце текста подпись чернилами: «Ив. Шмелев» (л. 58, заключена в круглые скобки красным карандашом). На листе обложки пометы карандашом: «в сборникъ», «5½ кв. 10¼ … < нрзб> // Корп. Эльзевира … < далее нрзб > // Абр. 1½», «II». Также карандашом: на л. 1 «? наб. — ё», «Св.»; на л. 8 — «Св./ 22», на л. 14 — «Св./ 28», на л. 24 — «Св. кон/ 38», на л. 30 — «Св./ 44» (цифры обведены чернилами), на л. 35 — «Св. кон/ 49», на л. 46 — 5½ кв. 10¼ … < нрзб> // Корп. Эльзевира … < далее нрзб > // Абр. 1½»; на л. 55 об. — арифметические
подсчеты. На л. 44 об. неразборчивое слово («Чортъ») повторено четыре раза и зачеркнуто (карандаш). Авторская (чернилами, простым карандашом) и корректорская (синим, красным карандашами) правка на л. 1—58.
Сохранность рукописи: общее пожелтение и потемнение бумаги, особенно сильное вдоль краев и в углах листов, пятна неизвестного происхождения на многих листах (особенно на л. 9—10, 33, 36—36 об., 41). Л. 1, 23 об.—24, 46 загрязнены. Разрывы бумаги на л. 15; надрывы и незначительные утраты фрагментов бумаги вдоль краев многих листов. Углы и края ряда листов загнуты. Л. 2 об. подклеен вдоль внутреннего поля полоской бумаги.
В письме к Бредиус-Субботиной И. С. Шмелев упоминает, что деревня Дюдьково является местом действия повести «Росстани»9, где она называется Ключевой. С этим местом, находящимся в сердце России, запечатленным на полотнах Левитана, у автора было связано много счастливых воспоминаний о днях детства, молодости. Зимой 1912 года Шмелев побывал здесь с семьей очередной раз, эта поездка могла стать отправной точкой в создании произведения.
Согласно имеющимся архивным материалам устанавливается, что работа над повестью началась в начале 1913 года: 29 апреля писатель приступил к машинописному набору Ранней редакции (РР) (1а). В течение последующих 12 дней он вычитывал этот беловик, попутно внося стилистическую правку. Исследование источника показало, что возникший в результате этой работы слой правки является вариантом РР. Следующий этап работы над повестью датируется, приблизительно, десятыми числами мая — в авторизованной машинописи зафиксировано, что 11 мая Шмелев начал набор текста повести с учетом последнего слоя правки; но и этот текст уже в процессе набора подвергся последовательному редактированию, придавшему плану выражения большее стилистическое разнообразие и содержательную глубину системе образов. По совокупности и характеру изменений можно заключить, что этот текст является Поздней редакцией (ПР) (2), правку и сверку которой автор окончил к концу мая. ПР с редкими исправлениями легла в основу опубликованного во второй половине 1913 года текста, вошедшего в сборник Товарищества московских писателей «Слово». Архивные материалы также содержат разрозненные листы с сильно правленным машинописным текстом, в котором представлены варианты сцен, эпизодов РР (1б). Рукописные материалы, за исключением двух листов с набросками (1в), не сохранились.
Сравнение редакций и вариантов показывает, что сюжет повести на макроуровне оставался стабилен на протяжении всей работы Шмелева над текстом. Главный герой повести, богатый купец Данила Степанович Лаврухин, достигнув преклонного возраста, покидает Москву, отправляется на покой в свое родовое гнездо, в деревню Ключи. Воспоминания воскрешают в памяти историю детства, юности. Здесь он отмечает последние свои именины, здесь же через непродолжительное время встречает смерть — именины и поминки сливаются в чреду, символизирующую естественность человеческого существования, данную свыше. Финал повести остается открытым. Шмелев создает эффект временного погружения читателя в поток событий, мерно идущих своим чередом. Этим он добивается смещения смысловой доминанты произведения с сюжетного действия, художественного конфликта в символический план, образуемый, внесюжет-ными элементами, повторяющимися деталями быта и образами природы, мотивами памяти и расставания.
Сопоставительный анализ редакций и вариантов показывает, что авторская целеустановка редактирования состояла в усилении именно символического плана произведения.
Шмелев изменяет будничное название повести «Соседи» в РР на «Росстани» в ПР (диалектное слово, имеющее в говорах центральных областей России четыре значения: перепутье дорог, расставание, место слияния двух ручейков, ряд прорубей10 — употребление слова в первых двух значениях имеет устойчивую связь с народными обрядами, совершаемыми в сакральном месте перекрестия дорог: молитвословное прошение, прощание, гадание и т. д.), название, задающее повести высокое философское звучание, по Т. В. Филату, значение названия «Росстани» нужно понимать «в переносном смысле как необходимость выбора нравственного (на распутье) пути героями произведения» [5, 115].
Автор распространяет описание деревенского быта семейства Лаврухиных. Эти пространные вставки, увеличивающие объем текста в два раза, наиболее яркая отличительная черта ПР. Насыщенный деталями текст производит эффект вербальной густоты, тягучести, деталь приобретает статус самодостаточного художественного события. Усиление этого свойства прозы необходимо автору, чтобы вписать образы в «поток реалистично — до мельчайших деталей в быте и идиостиле героев — воспроизведенной жизни» [3, 35], поэтому жизнь во всем бытовом многообразии становится главным предметом повествования, а художественная деталь ее символом.
Рассмотрим другие отличия редакций: Шмелев распространяет текст ПР, вводит новые микроэпизоды, описания, выполняющие функцию внесюжетных элементов, создающих эффект адинамического, дискретного повествования. Некоторые из них навеяны воспоминаниями детства самого автора и поразительно напоминают отрывки из автобиографической дилогии «Богомолье», «Лето Господне».
Ранняя редакция
Тутъ и Ник. Данил.11 правда,12 призналъ, что13 въ Ключевой14, въ сам. дѣлѣ15 хорошо: пожалуй что16 лучшаго мѣста и не найти. И главное — родное мѣсто.17 (1)
Поздняя редакция
Тутъ всѣ заговорили, что въ Ключевой, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ хорошо, лучшаго мѣста не найти. А главное, — родное мѣсто. Вспомнили, что два лЪта жилъ въ Ключевой больной полковникъ, ды-шалъ навозомъ черезъ оконце въ хлѣвъ и выздоровѣлъ отъ чахотки; даже въ благодарность далъ на стройку НатальЪ, у которой сто-ялъ. Тутъ Данила Степанычъ еще болѣе увѣрился, что поправится тамъ, перестанутъ отекать ноги и вернется сонъ: ужъ очень хороша тамъ вода. (1)
А по уголкамъ, какъ подходилъ вечеръ, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшiе стараго мѣста. Всегда у Арины водились тараканы, — къ прибыли, гово-рятъ, — и рада была она, когда и на новосельѣ увидала перваго таракана. Теперь ихъ было много: всѣ приползли. (24)
Автор детализует образы главных героев: так, в ПР развернуто описание сестры главного героя, Арины, позволяющее читателю не только понять ее характер, но и узнать историю жизни. В системе образов ПР Арина выполняет роль хранительницы памяти, хранительницы родового гнезда — «матриарха».
Ранняя редакция
Поздняя редакция
И сталъ Данила Степанычъ жить новую, третью жизнь въ уходѣ у сестры Арины обрадованной, высокой и костлявой,18 и желтолицей съ замшеннымъ отъ старости подбородкомъ, крючконосой. (2 об.)
И сталъ Данила Степанычъ доживать новую, третью, жизнь, въ уходѣ у обрадованной сестры Арины, высокой и костлявой, съ замшеннымъ отъ старости под-бородкомъ.
Восьмой десятокъ доживала Арина, и вся была пряма и строга взглядомъ, какъ и лѣтъ двадцать назадъ: не трогало и не гнуло ее время. Ходила твердо и широко, дѣловито постукивала корчагами въ печкѣ и еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки “боро-дулей”, а какъ-что, — нитокъ ли на змѣй, сахарку ли кусочекъ, — топтались подъ окнами и выматывали душу. И хоть звали ее бабы “горбоносой”, — черезъ нее доходили до Лаврухиныхъ. (4 об.)
Образ Лаврухина в ПР дан глубже, автор разворачивает внутреннюю жизнь героя, психологическое изображение дается более энергично, автор, так сказать, маркирует «ускоренным» повествованием семантически доминантные отрезки текста. Так, Шмелев переделывает один из центральных эпизодов повести: Лаврухин после встречи с о. Сысоем впервые задумывается о предназначении человека, о смысле жизни христианина.
Ранняя редакция
Ѣхалъ на своемъ тяжеломъ и тихомъ конѣ, въ покойной пролеткѣ рощицей, въ свистѣ зя-бликовъ и думалъ о Сысоѣ. Готовится человѣкъ. И опять думалъ, что есть важное, кромѣ жизни, за жизнью. И вотъ къ этому-то важному готовится Сысой, хромой Сережка. И стало ему грустно, грустно. Вспоминалъ, что въ Москвѣ у него пять домовъ, и двое бань, въ деревнѣ новый домъ наладился, ростутъ его подсолнухи… И стало ему грустно… (11 об.)
Поздняя редакция
Ѣхалъ Данила Степанычъ на своемъ тяжеломъ и тихомъ конѣ, въ покойной пролеткѣ, и думалъ о Сысоѣ. Думалъ, что вотъ готовится человѣкъ, важное у него есть, свое, за жизнью. Къ этому-то важному и готовится. И стало ему грустно и тревожно. А онъ-то что же не готовится? Тотъ ужъ давно готовится… тридцать лѣтъ… (29)
В структуре художественного образа Лаврухина в ПР усиливаются коннотации «островной психологии». Для этого автор разворачивает необходимый художественный контекст на разных повествовательных уровнях. В образе работника Степана подчеркиваются черты инаковости. Этот персонаж в повести находится неотлучно от главного героя, он городской житель, Москвич, впервые попавший в деревню, для него все ново. Лаврухин не без удовольствия знакомит его с разнообразными уголками родной земли, разговаривая с ним как с чужаком, иноземцем.
Ранняя редакция
— Э-э, братъ… То-то ты и гры-ба не знаешь… Говоришь, сыроѣжка это, — показалъ онъ на грыбъ19. — Свинуха это, а это вотъ20 лисичка… желтенькая… а это… валуй… а это… Ну что это? Вотъ и не знаешь…
— Не могу знать… //
— Ко-зленокъ…
И было ему радостно учить Степана всему своему,21 деревенскому, прошлому22 (9 об.—10)
Поздняя редакция
— То-то ты и гриба не знаешь… Говоришь, сыроѣжка это… — по-казалъ Данила Степанычъ на грибъ въ корзиночкѣ. — Какая же это сыроѣжка! Свинуха это! А та вотъ… ли-сичка, желтенькая-то… а это валуй. А это… Ну, что это? Вотъ и не знаешь. //
— Не могу знать…
— Ко-зленокъ!
И было ему радостно учить ротастаго, бѣлобрысаго Степана, — съ придурью онъ ! — всему своему, деревенскому, прошлому (22—22 об.)
Пространству деревни ПР автор придает облик островного мира. Нововведения преображают условное пространство деревни Ключевая в узнаваемое пространство родного мира, маркированного словом « русскiй» . В произведении это пространство символически обозначает всю Россию.
Ранняя редакция Поздняя редакция
Отъ сѣвера укрывали23 горы. Со всѣхъ сторонъ обступили
(1 об.) ее крутыя горы, — не настоящiя, каменныя, а мягкiя, тихiя рус-скiя горы, съ глинистыми обрывами, въ черемухѣ и березахъ (1 об.)
Многие переделки РР направлены на актуализацию мотива памяти, иногда автор добивается этого, изменяя грамматическую форму слова. В приведенном ниже отрывке автор меняет будущее время на прошедшее, используя грамматические формы как в прямом значении, так и в переносном ( Рѣзать (РР) — в значении «Будут резать»; Откусишь (РР) — в значении «откушу»; Откусишь (ПР) — в значении «откусывали» и т. д.). В целом эти изменения позволяют автору подчеркнуть картины из детства героя, навеянные воспоминаниями. «Родная сторона», какой она видится Лаврухину, поэтически прекрасна и неизменна, будущее в ней соединено с образами прошлого, и в данном смысле этот мир мифологичен.
Ранняя редакция
И вспомнилась крѣпкая, сухая осень. Уже октябрь, уже въ каду-кахъ вода пристывала по но-чамъ^ РЪзать капусту. Крепкую, тугую, бѣлую. Осенью бы ее рубили, вырЪзали бы съ хрустомъ кочерыжки — откусишь — звяк-нетъ даже, звукнетъ… (11)
Поздняя редакция
И вспоминалась крѣпкая, съ заморозками, осень. Уже октябрь, уже въ кадушкахъ вода пристывала по ночамъ. Рѣзали въ сѣн-цахъ капусту, тугую, б^лую, съ хрустомъ выпаривали вилки, вырЪзывали кочерыжки. Откусишь — даже звякнетъ. Съ пЪс-нями рубили… (20)
При сравнении редакций создается впечатление, что автор сознательно до предела осложняет текст, вводя в него казалось бы избыточные сцены, например, в отрывке, приведенном ниже, описана суета, вызванная появлением почтенного односельчанина, Лаврухина. В этом, возможно, проявляется целеустановка автора на введение в текст новых эпизодических персонажей, которые обогащают произведение художественным разнообразием, осложняют сюжетный план произведения фрагментарностью. С новыми персонажами в тексте ПР появляются локусы, расширяющие художественную перспективу пространства.
Ранняя редакция
— А-а,24 лопотуха какая… Нуну… Зайди къ <нрзб>…25
И съ сосѣдскихъ дворовъ показывались бабы, бѣжали дѣвчонки и, оповѣщали, что ходитъ Данила «старикъ»<,> пошелъ старикъ по26 дворамъ, опрашиваетъ.
Поздняя редакция
— А-а, ты какая… лопотуха… Ну-ну… Добѣги-ка до Ариши, кваску чтобы дала сюда бутылочнаго…
— И жарко-то ужъ вамъ какъ, Данила Степанычъ!.. А я сейчасъ… Манюшка, стулъ давай съ рѣшо-точкой… Въ окно давай, несуразная! Пахло крапивой и коровьимъ навозомъ въ холодкѣ. Толклись мошки подъ развѣсистой рябиной. Данила Степанычъ, красный, въ бѣломъ сiянiи вѣерной бороды, тяжело дышалъ и обмахивался бѣлымъ картузомъ. Степанъ дожидался со стульчикомъ, сидя въ сторонкѣ, въ тѣни отъ буйной крапивы. А въ сосѣднихъ дворахъ высматривали бабы, перебѣгали дѣвчонки, — оповѣщали, что си-дитъ Данила Степанычъ у Дудари-хи на стулѣ подъ рябиной. Пахло крапивой и коровьимъ навозомъ въ холодкѣ. Толклись мошки подъ развѣсистой рябиной. Данила Сте-панычъ, красный, въ бѣломъ сiянiи вѣерной бороды, тяжело ды-шалъ и обмахивался бѣлымъ кар-тузомъ. Степанъ дожидался со стульчикомъ, сидя въ сторонкѣ, въ тѣни отъ буйной крапивы. А въ сосѣднихъ дворахъ высматривали бабы, перебѣгали дѣвчонки, — оповѣщали, что сидитъ Данила Степанычъ у Дударихи на стулѣ подъ рябиной, а Дудариха побѣжала къ Аринѣ Степановнѣ за квасомъ. А поодаль, изъ-за крапивы, высматривали ребятишки и шептались.
Обобщая результаты сопоставительного анализа редакций, укажем, что Шмелев в целом усложнил повествовательную структуру произведения, введя в текст различные по объему и содержанию внесюжетные элементы, многочисленных эпизодических персонажей, разнообразные художественные детали, расширил содержательный план героев повести. Целеустановка автора заключалась в том, чтобы выделить в тексте символический план, устойчиво связанный с понятием русской земли, русского мира, образом главного героя, осмысляющим свое прошлое в перспективе будущего пакибытия.
Примечания
* Исследование выполнено по гранту Министерства образования и науки России «Новые источниковедческие и текстологические исследования русской словесности XIX—XX вв.» (№ 34.1126).
-
1 И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 25.Х.1932 // Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927—1934). М.: Русская книга, 2000. С. 323; И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 21.XI.1932 // Там же. С. 345—346; И. С. Шмелев — И. А. Ильину // Там же. 21.Х.1931. С. 231; И. С. Шмелев — И. А. Ильину // Там же. 18.II.1932. С. 239.
-
2 Шмелев И. С. Росстани // Слово. М.: Книгоиздательство писателей, 1913. Вып. 1. С. 37—126; Шмелев И. С. Росстани // Волчий перекат; Виноград; Росстани. [Рассказы. Т. V]. М.: Книгоиздательство писателей, 1914. С. 117—207; Шмелев И. С. Росстани // Родное. Про нашу Россию: Воспоминания; Рассказы. Белград, 1931. С. 37—123.
-
3 Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов: в 3 т. М.: Русская книга, 2000. Т. 1. 560 с. Т. 2. 576 с. Т. 3. 528 с.
-
4 Коробка Н. И. И. С. Шмелев: Критический этюд // Вестник Европы. 1914. Том. 3. С. 338—356; Дерман А. Сборники «Слово» // Ежемесячный журнал. М., 1914. № 3. С. 155; Кульман Н. Родное // Россия и Славянство. 1931. 22 авг.; Савельев А. «Расставание». Родное. Ив. Шмелев // Руль. 1931. 8 окт. (№ 3304).
-
5 Адамович Г. Ив. Шмелев. «Родное», Белград 1931 // Современные записки. 1932. № 49. С. 454—455.
-
6 И. С. Шмелев — И. А. Ильину, 20.VI.1932 // Ильин И. А. Собрание сочинений: Переписка двух Иванов (1927—1934). М.: Русская книга, 2000. С. 278—279.
-
7 Только заглавие без текста.
-
8 На л. 58 — карандашом.
-
9 И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина: Роман в письмах: в 2 т. М.: РОССПЭН, 2005. Т. 1. С. 436.
-
10 Словарь русcких народных говоров. СПб.: Наука, 2001. Вып. 15. С. 192—193.
-
11 Было: И, исправлено автором: Тутъ и Ник.<олай> Данил.<ычъ>
-
12 Далее было : всѣ въ семьѣ вспомнили, и
-
13 Далее было: ключи
-
14 Было: Ключевомъ, исправлено автором: Ключевой
-
15 въ сам.<омъ> дЪлЪ вписано.
-
16 что вписано.
-
17 Далее было вписано: Тутъ
-
18 Далее был незачеркнутый вариант: похожей въ большихъ круг-лыхъ очкахъ на
-
19 Было: грыбы, исправлено автором: грыбъ
-
20 вотъ вписано.
-
21 Далее было: прошлому,
-
22 прошлому, вписано.
-
23 Было: закрывали, исправлено автором: укрывали
-
24 Далее было: языкъ у тебя какой™ сорока какая™
-
25 какая™ Ну-ну™ Зайди къ < нрзб >™ вписано.
-
26 Далее было начато: дер
THE ISSUES OF NARRATIVE POETICS
IN THE CREATIVE HISTORY
history of creation, poetics, text ]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013. 304 p.
Список литературы Проблемы поэтики повествования в творческой истории повести И. С. Шмелева «Росстани»
- Абишева У. К. Диалектика художественного творчества И. С. Шмелева 1910-х годов (повесть «Росстани»)//Художественный текст и культура. Материалы пятой международной научной конференции. -Владимир: ВГПУ, 2004. -С. 27-35.
- Кияшко Л. Н. «Бытовая» проза И. С. Шмелева (повесть «Росстани»)//Вестник Московского гос. гуманит. ун-та им. М. А. Шолохова. Филологические науки. -2012. -№ 3. -С. 15-24.
- Соболев Н. И. Повесть И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша»: творческая история, поэтика, текст. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. -304 с.
- Трубицына М. Ю. Христианские мотивы в творчестве И. С. Шмелева («Росстани», «Богомолье»)//Классическая словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики). -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2007. (Сер. Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Вып. 2). -С. 311-330.
- Филат Т. В. Поэтика заглавий прозы И. Шмелева (своеобразие семантики и структуры)//Вiсник Днiпропетропетровського унiверситету економiки та права iм. Альфреда Нобеля: Серiя «Фiлологiчнi науки». -Днiпропетровськ, 2011. -С. 112-118.
- Хатямова М. А. Особенности повествования в повести И. С. Шмелева «Росстани» (1913)//Шмелевские чтения. -Симферополь: Таврия-Плюс, 2004. -С. 40-44.
- Черников А. П. Поэзия «умной жизни» в творчестве И. С. Шмелева: повесть «Росстани»//Вестник Калуж. ун-та. -2009. -№ 4. -С. 52-56.