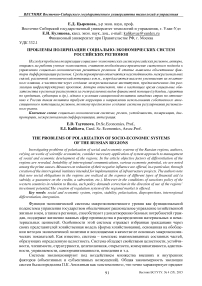Проблемы поляризации социально-экономических систем российских регионов
Автор: Цыренова Е.Д., Куликова Е.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 4 (55), 2015 года.
Бесплатный доступ
Исследуя проблемы поляризации социально-экономических систем российских регионов, авторы, опираясь на работы ученых экономистов, считают необходимым применение системного подхода к управлению социально-экономическим развитием регионов. В статье выявлены объективные факторы дифференциации регионов. Среди первопричин отмечаются неустойчивость межрегиональных связей, различный экономический потенциал и т.п., и предлагаются шаги по уменьшению их негативного влияния, в частности через создание межрегиональных институтов, предназначенных для реализации инфраструктурных проектов. Авторы отмечают, что в настоящее время социальные обязательства в регионах реализуются за счет различных видов финансовой помощи (субсидии, гарантии по кредитам, субвенции и др.), однако в условиях санкционной политики западных стран по отношению к России такая политика требует коррекции в направлении использования собственного инвестиционного потенциала регионов, поэтому предложено создание системы регулирования регионального рынка.
Социально-экономическая система, регион, устойчивость, поляризация, диспропорции, межрегиональная дифференциация, интеграция
Короткий адрес: https://sciup.org/142143093
IDR: 142143093 | УДК: 332.1
Текст научной статьи Проблемы поляризации социально-экономических систем российских регионов
Функции экономической системы макроэкономического уровня как функциональной подсистемы управления государством обеспечивают рациональное управление хозяйственной жизнью в нем, а также в регионах, способствуют удовлетворению базовых потребностей граждан, поддержке жизненно важных сфер производства и распределения материальных и нематериальных ценностей. Особенности этой системы отражает избранная гражданами через своих представителей хозяйственная модель (форма хозяйствования), основанная на обобщении методов экономической политики и воплощаемая в качестве ее основных макроэкономических показателей. Как известно, система ‒ комплекс взаимосвязанных составных частей, образующих определенную целостность. Система обладает свойствами целостности, устойчивости, членимости, структурности, целеполагания, открытости, коммуникативности, адаптивности, управляемости, самоорганизованности, поведения и т.д.
Системы эволюционируют под воздействием множества внешних и внутренних факторов (объективных и субъективных возмущений). Общая закономерность эволюции систем была определена П.К. Анохиным как «системогенез», что точно характеризует предмет науки системологии. Общество исследований по общей теории систем (англ. Society for General Systems Research; SGSR) ‒ предшественник современного Международного общества наук о системах. В 1988 г. было учреждено Международное общества по наукам о системах (ISSS).
По мнению известного российского экономиста Г.Б. Клейнера, восприятие управления должно быть только системным: «сущность системной парадигмы состоит в том, что функционирование экономики, т.е. осуществление процессов (актов) производства, распределения, обмена и потребления благ, рассматривается через призму создания, взаимодействия и трансформации экономических систем» [3].
Как справедливо отмечает экономист С.А. Толкачев, «в СССР, чей опыт управления такими системами в настоящее время только начинает переосмысливаться в положительном ключе, политическая экономия считалась научной основой управления обществом. Несмотря на то, что учебники политической экономии социализма представляли собой набор идеологических лозунгов, реальное управление социально-экономическими процессами опиралось на ту онтологическую картину мира и общественные ценности, которые были сформулированы в качестве концептов социального устройства» [5].
Сложность управления социально-экономической системой в конкретном пространстве и времени состоит из разнообразия и неопределенности этого пространства и времени, как риск предпринимательской деятельности состоит из риска убытков или вероятности сверхприбыли. И то, и другое ‒ трудно прогнозируемые результаты управления, но от этого наличие прогноза развития социально-экономической системой в конкретном пространстве и времени не теряет своей актуальной необходимости. Сложность регулирования состояния социальноэкономической системы в конкретном пространстве (государство, регион, компания) и времени предопределена и тем, что экономические риски представлены широким спектром: финансовые, налоговые, кредитные, страховые, пенсионные и т.д. Перечень этих рисков предопределен многочисленностью сфер, определяющих понятие «экономика» и его практическую формализацию (в общем смысле экономика – совокупность взаимодействий субъектов между собой в отношении управляемых объектов или процессов для реализации интересов каждого из них).
Базовую основу методологии систем и в ее контуре экономического анализа состояния различного рода систем (в нашем исследовании это социально-экономическая система региона, «СЭС рег ») исторически формировала экономическая теория, развиваясь с развитием и усложнением всего спектра отношений в обществе. Основательного теоретического обоснования требует концепция регулирования социально-экономических систем на каждом из уровней государственно-властной иерархии. Содержание такой концепции определяется не только тем, в русле какой экономической теории разрабатывается концепция, но и запросами субъектов власти, управления, хозяйствования и гражданского общества в конкретном пространстве и времени.
В большинстве научных источников регион рассматривается как социально-экономическая система, что, в принципе, не относится к дискуссионным вопросам регионолистики 1. Наиболее противоречивые суждения содержатся в публикациях, где экономисты пытаются сформулировать признаки (свойства) устойчивого развития социально-экономической системы. К таким свойствам ученые относят: способность системы к саморазвитию и само- регуляции; наличие взаимодействия всех подсистем, обеспечивающих целостность системы; способность поддерживать состояние равновесия (характеризуемого взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно погашается); способность противостоять дестабилизирующим факторам. «Регион как объект устойчивого развития выступает как воспроизводственная система, характеризуемая взаимодействием составляющих ее подсистем: экологической, социальной, экономической, технико-технологической и инновационной» [6, c. 9].
Отметим оригинальность характеристики «регион», предложенной И.Р. Кормановской и Н.Н. Ренкас, определяющей регион как «открытую сложную социо-эколого-экономическую систему, на которую влияют внутренние факторы, обусловленные местным самоуправлением, и внешние, обусловленные государственной экономической и социальной политикой» [4]. Характерно, что ученые на первый план ставят социальную составляющую в развитии региона, поскольку наиболее ущемленными в ресурсном обеспечении являются социальные программы муниципалитетов.
В связи с этим можно обратиться к концепции Э. Хекшера ‒ Б. Олина, которые доказали, что рынок социальных услуг – это только органичная часть товарного и финансового рынков и его развитие определяется развитием промышленности, производственной инфраструктуры и углублением разделения труда, укреплением межрегиональных экономических связей.
По сложившейся исследовательской традиции в регионалистике, равно как и в других науках и практиках, принято выделять объективные и субъективные факторы, непосредственно или опосредованно определяющие состояние регионов, тенденции к устойчивому развитию или к поляризации. Присоединяясь к мнению большинства ученых, считаем, что к совокупности объективных факторов, влияющих на экономику и социальные процессы в регионах относятся: природно-географические различия между регионами страны, обеспеченность экономического развития ресурсами, технологическая специфика и производственная специализация территории, степень ее экономической обособленности. Субъективными факторами, усиливающими пространственную поляризацию, являются детерминанты институциональной, инфраструктурной и функционально-организационной направленности, т.е. тип политико-территориального устройства и характер распределения властных и экономических полномочий, традиции и практика этатизма2, наличие и позиции крупных корпоративных структур.
Многие ученые видят первопричиной поляризации социально-экономических уровней регионов крайнюю неустойчивость межрегиональных экономических связей, большинство из которых определяются политикой федерального центра, в частности при участии в тендерах на государственные закупки, получении государственных гарантий под реализацию инвестиционных проектов и т.д. Ожидаемое в 2015 г. ужесточение монетарной политики и «дорогой» капитал в банковской системе приведет к замедлению роста потребительского кредитования до 25-30%, что будет способствовать сближению темпов роста доходов и расходов населения. Поскольку в 2015 г. темпы роста доходов населения вряд ли повысятся, это приведет к замедлению потребительского спроса. Действие данных факторов на всю российскую экономику, разумеется, формирует так называемую «силу удара» на экономику субъектов Федерации. Последствия такого удара в разных регионах неоднозначны, поскольку противостояние их экономик воздействию факторов измеряется величиной экономического потенциала. Слагаемые экономического потенциала различны, главные из них ‒ технологический уровень промышленности и выпуск запрашиваемой рынком «актуальной» продукции, устойчивое развитие сельского хозяйства, рост рабочих мест и высокопрофессиональных кадров. Разумеется, важным фактором являются природно-климатические особенности региона и его удаленность от главных рынков сбыта. Все это в целом определяется как «ресурсный потенциал региона», преумножение которого во многом зависит от политической воли руководства регионов четко определять стратегию развития, следовать ей, не отклоняясь от выбранного курса вне зависимости от усиления внешних негативных воздействий. Для этого в распоряжении каждого из субъектов региональной власти должен находиться запасной вариант экономической политики во всех ее составляющих (инвестиционные, финансовые, налоговые, страховые, пенсионные и другие регуляторы на случай непредвиденных событий). Причем помимо целевых установок на изменение курса в распоряжении региональной власти должен находиться детальный бизнес-план их реализации, разработанный независимым экспертным сообществом (ученые вузов, НИИ и других научных центров региона).
К числу объективных факторов дифференциации регионов следует также отнести отставание в институциональном оформлении системы регулирования общенациональной и региональной экономик, а также отсутствие связанных с институтами управления механизмов (инструментальный набор регулятивов) управления экономикой и социальными процессами в регионах. Регионы-лидеры («точки роста») сумели более успешно влиться в относительно новый процесс модернизации российского общества и объективный процесс глобализации мирового сообщества. Говоря о «временном» аспекте пространственной поляризации, необходимо понимать, что речь идет о возрастающей скорости внешних изменений, оказывающих значительное влияние на характер социально-экономических процессов. При этом скорость таких изменений различна для «центра» и «периферии» [1]. В современных российских реалиях социальные процессы - это вялотекущее развитие без явного тренда на качественный рост социального и умственного здоровья нации, обособленное от более мобильного развития экономических процессов при всем их отраслевом и территориальном разнообразии и разновекторной динамике показателей (различают регионы депрессивные, экономически успешны, перспективные и т.д.).
Мировая экономика уже ощущает на себе негативное влияние процессов глобализации и «расщепления» финансовых и материальных потоков в глобальном масштабе, каждый из которых начал «жить» собственной имманентной жизнью. Банки кредитуют банки, а не реализацию проектов в реальной экономике. Финансовые рынки «работают сами на себя», имея ярко выраженную спекулятивную направленность и слабо участвуя в перераспределении финансовых потоков в производственной сфере.
Проблема развития регионов состоит также в том, что в условиях мирового масштабирования рынка капиталов совершенно не обязательно производственные и другие структуры бизнеса размещать на российской территории, чему способствует информатизация, когда капиталы могут перемещаться из страны в страну одним кликом на компьютере. Мировой опыт размещения бизнес-структур показывает, что размещение производственных функций зависит от выгодности (прибыльности вложений денежных средств), а не от благих целеустремлений собственников капиталов. Это уже объективная реальность, фактология рынка, с которой необходимо считаться, вырабатывая адекватные механизмы регулирования стихийных рыночных сил в условиях неопределенности.
Соглашаясь с мнением А.А. Зиновьевой, отметим, что на появление большого числа кризисных регионов, так называемых территорий со «специфическими отклонениями в развитии» (с острыми социальными, экономическими и экологическими проблемами), усиливающих пространственную поляризацию, существенное влияние оказывает ряд нестандартных факторов:
-
‒ разрушительное воздействие природных или техногенных катастроф (например, техногенная катастрофа в префектуре Фукусима в Японии, произошедшая вследствие сильного землетрясения, привела к тому, что потребовалась дезактивация седьмой части ее земель);
-
- масштабные общественно-политические конфликты (например, экстремистские действия террористических мусульманских группировок на Северном Кавказе в России привели
к досрочному закрытию туристического сезона 2011 г. в Приэльбрусье; продолжающиеся столкновения с террористами в Чечне; проблемные отношения с Украиной, США и др.);
-
‒ существенные спады производства и уровня жизни, вызывающие разрушения накопленного экономического потенциала и немалые размеры вынужденной трудовой миграции населения (посткризисная реакция на негативные события в мировой экономике 2008 г.; девальвация рубля в 2014 г. и вхождение экономики России в 2015 г. с диагнозом «рецессия»).
В настоящее время социальные обязательства реализуются за счет различных видов финансовой помощи (субсидии, гарантии по кредитам, субвенции и т.д.) регионам из казны государства. Такая помощь создает ресурсные условия для развития социальных услуг, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы деятельности и для персонифицированных трансфертов малообеспеченным слоям населения. При этом, как справедливо отмечает Н.В. Зубаревич, имеются подводные камни: «масштабная финансовая помощь слаборазвитым республикам формирует зависимую дотационную экономику, представленную в основном сектором бюджетных услуг, растет коррупционность при перераспределении бюджетных средств. Однако при всех негативах «смягчение социального неравенства регионов ‒ важнейшая задача. Оно способствует росту человеческого капитала, социальной и территориальной мобильности, модернизации ценностей и образа жизни. Помогать нужно людям, а не регионам, поэтому выравнивающая политика ‒ в первую очередь социальная, а не региональная. Приоритетами являются государственные инвестиции в человеческий капитал и адресная поддержка уязвимых групп населения» [2, с. 12].
Как правило, называются следующие основные диспропорции, которые заботят правительственные структуры и являются предметом дискуссий регионоведов:
-
‒ усиление межрегиональной дифференциации по показателям уровня жизни населения, особенно по уровню доходов населения;
-
‒ растущая межрегиональная дифференциация по уровню общеэкономического развития. Обычно отмечается чрезмерная концентрация производства валового регионального продукта, треть которого производится в Москве и Тюменской области, при этом более 50% общероссийского ВРП производится в первой десятке субъектов Федерации;
-
‒ прогрессирующая депопуляция в российских регионах при усиливающейся концентрации населения в столицах, Центрально-Черноземном регионе, на юге России. Расселение претерпевает кардинальные изменения, люди тяготеют к теплу и экономическому процветанию;
-
‒ в наиболее эффективных центрах концентрации экономической мощи усиливаются диспропорции между общеэкономическим ростом и развитием инфраструктуры.
Насколько эти диспропорции тревожны и насколько они могут быть элиминированы, являются ли пространственные диспропорции следствием неверных действий, ошибок в управлении или имеют некую объективную природу, можно выяснить, обратившись к имеющемуся опыту исследований и политических действий в этом направлении, – вот тот неполный перечень вопросов, которые необходимо решать немедленно. Примером в этом смысле может служить Китай, который также имеет обширную территорию и в течение длительного времени проводит системные экономические реформы, одним из следствий которых также является пространственная дифференциация.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: для сглаживания указанных выше диспропорций необходимо создание системы регулирования регионального рынка на основе концентрации собственных инвестиционных ресурсов в инвестиционном фонде, средства которого должны направляться на реализацию инфраструктурных проектов регионального значения. Реализация подобных проектов позволит:
-
1) нивелировать диспропорции между экономическим ростом и развитием инфраструктуры;
-
2) повысить уровень общеэкономического развития за счет создания новых региональных активов (что увеличивает объем ВРП);
-
3) создать новые рабочие места для населения, а также улучшить социальную инфраструктуру, что благоприятно скажется на повышении уровня жизни населения региона.
Заключение
Необходимо отметить, что тормозом экономической динамики в большинстве российских регионов является устойчивый рост необоснованно высокой доли операционных издержек в ценах конечного и промежуточного потребления, при отсутствии конкуренции и антимонопольного регулирующего воздействия со стороны государственно-властных структур. Все российские регионы интегрированы в общенациональную экономическую систему, представляя собой части целого, поэтому при разработке стратегии любого из регионов необходима координация политик и решений для их реализации на местах как федеральной, так и региональных властей. При этом в более тесной взаимосвязи должны находиться стратегии соседствующих регионов, поскольку на развитии их приграничных территорий сказываются экономические и социальные решения так называемых «соседствующих» властей.
Полагаем, что назрела необходимость в создании межрегиональных институтов для формирования механизмов, позволяющих интегрировать усилия по реализации различных проектов, в частности инфраструктурных, необходимых соседним регионам для обеспечения возможности трудовой миграции, либо удовлетворения культурных потребностей граждан. Создание межрегиональных институтов необходимо для организации и управления подобными механизмами (в форме фондов), предназначенными также для объединения, в том числе и финансовых ресурсов регионов, поскольку развитие регионов, должно строиться не на регламентах, декларируемых сверху, а не взаимовыгодном сотрудничестве регионов.
Список литературы Проблемы поляризации социально-экономических систем российских регионов
- Зиновьева А.А. Проблемы сглаживания пространственной поляризации в экономике регионов//Проблемы современной экономики. -2011. -№ 4 (40).
- Зубаревич Н.В. Региональное развитие и региональная политика в России//ЭКО. -2014. -№ 4. -С. 7-27.
- Клейнер Г.Б. Новая теория экономических систем и ее приложения//Вестник РАН. -2011. 4.
- http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=&authorhash=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%98+%D0%A0 И.Р., Ренкас Н.Н. Оценка эффективности управления устойчивым развитием региона. - СПб.: Ñ. -Ïåòåðá. ãîñ. óí-ò ñåðâèñà è ýêîíîìèêè, http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1691 2009.
- Толкачев С.А. Неоклассическая экономическая теория и управление сложными системами . -URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/219144 http://kapital-rus.ru/articles/article/219144>
- Сактоев В.Е., Халтаева С.Р. Стратегическое управление устойчивым инновационноориентированным развитием социально-экономической системы региона//Известия Юго-Западного гос. ун-та. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. -2013. -№ 4. -С. 9-13.