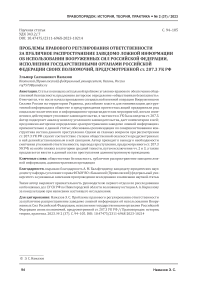Проблемы правового регулирования ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воору- женных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ
Автор: Намазов Э.С.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 2 (37), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной проблеме уголовно-правового обеспечения общественной безопасности; предложено авторское определение «общественная безопасность». Отмечается, что после начала проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России на территории Украины, российские власти для минимизации деструктивной информации в обществе и предупреждения протестных акций предприняли ряд социально-политических и информационно-пропагандистских мероприятий, внесли изменения в действующее уголовное законодательство, в частности в УК была введена ст. 207.3. Автор подвергает анализу новеллу уголовного законодательства, дает комментарии к ней; предложено авторское определение «распространению заведомо ложной информации» применительно к данной статье; обоснованы рекомендации по совершенствованию конструктива состава данного преступления. Одним из главных вопросов при рассмотрении ст. 207.3 УК РФ служит соответствие степени общественной опасности предусмотренных в ней деяний установленным в ней санкциям. Автор приходит к выводу о необходимости смягчения уголовной ответственности, перевода преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ, из особо тяжких в категорию средней тяжести, путем исключения чч. 2 и 3, а также предлагается ввести в данный состав преступления административную преюдицию.
Общественная безопасность, публичное распространение заведомо ложной информации, административная преюдиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14127107
IDR: 14127107 | УДК: 343.2/.7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2023-10214
Текст научной статьи Проблемы правового регулирования ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воору- женных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ
Уголовно-правовая охрана общественной безопасности продиктована экономическими и социальными изменениями в динамично развивающейся России, которая после распада Советского Союза встала на демократический путь и, обострившейся в новых условиях свободного общества, необходимостью защищать интересы общества, государства и отдельных граждан. В этой связи законодатель предусмотрел в УК РФ 1996 г. раздел IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Общественная безопасность, как это явствует из структуры данного УК, выступает родовым объектом, а составляющим элементом последнего признается общественный порядок, который достигается соблюдением установленного правового режима (правопорядка) и сложившихся в современной российской культуре правил общежития, что и служит средством, обеспечивающим общественное спокойствие.
Материалы и методы
В качестве научного материала были использованы публикации отечественных ученых по рассматриваемой проблеме. Эмпирическая база представлена материалами следственной и судебной практики, статистики, зарегистрированных преступлений по ст. 207.3 УК РФ, а также информация с официальных Интернет-ресурсов (Минобороны России, Следственный Комитет России (далее — СК России), Роскомнадзор).
Объектом проведенного исследования следует считать комплекс общественных отношений, продуцированных конструированием уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ, регламентирующей публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (далее — ВС России), исполнении государственными органами РФ своих полномочий. Таким образом, предметом исследования является указанная уголовно-правовая норма. Проведенное исследование базируется на актуальной редакции уголовного законодательства и использует сравнительно-правовой и формально-логические методы.
Результаты исследования
В «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации» она определяется как состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера1.
Закон от 5.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» определял безопасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»2.
Действующий Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»3 не содержит определения безопасности, но оперирует понятием «национальная безопас-ность»4.
Термин «безопасность» определяется как «состояние, при котором отсутствует опасность» [1, с. 67]. Опасность означает «способность причинить какой-нибудь вред» [2, с. 451]. При совершении преступлений против общественной безопасности разрушаются базисные принципы защищенности и наносится существенный урон обеспечивающим ее общественным отношениям, одновременно причиняется вред потерпевшим и в материально-правовом плане — физический и имущественный и др.
В научной литературе встречаются различные подходы к дефиниции общественная безопасность: состояние защищенности жизненно важных интересов общества [3, с. 371]; состояние общества, характеризующееся его спокойствием и стабильностью [4, с. 296]; сохранение баланса, необходимого для нормальной жизнедеятельности граждан этого общества и сохранения общественных отношений [5, с. 45]; состояние защищенности и нормального его функционирования [6, с. 171]; система деяний, посягающая на различные сферы общественных отношений [7, с. 207]; вид безопасности, выделенный на основе объекта защиты общества [8, с. 19] и др.
По мнению В. И. Утянского, понятие «безопасность» включает в себя общественную безопасность и общественный порядок; он характеризует ее как состояние защищенности личности от внешних и внутренних угроз [9, с. 8].
По своему содержанию категории «общественная безопасность» и «безопасность» соотносятся как часть и целое, последняя объективно охватывает и иные аспекты защищенности (безопасности), поэтому они составляют единое целое, состоящее из компонентов: государственной, общественной и личной безопасности.
Ф. Р. Сунудров отмечает, что «содержание общественной безопасности не следует сводить только к соблюдению установленных правил по производству или обращением опасных предметов, но и опасные формы поведения людей. Опасность заключается в том, что их совершение сопряжено с причинением физического, материального, организационного либо иного вреда гражданам, собственности, окружающей среде, деятельности специальных институтов» [10, с. 460].
и информационно-пропагандистских мероприятий, одновременно внесли изменения
Таблица 1 — Изменения в законодательстве
|
УК РФ |
Соответствующая статья КоАП РФ |
|
Статья 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий |
Без административной преюдиции (сразу возбуждают уголовное дело) |
|
Статья 280.3 УК РФ. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России… в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ |
Статья 20.3.3 КоАП РФ. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. |
|
Статья 284.2 УК РФ. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц |
Статья 20.3.4 КоАП РФ. Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц |
Мы полагаем, что под «общественной безопасностью» следует понимать совокупность общечеловеческих ценностей и благ (права и свободы) охраняемых уголовным законом, достигнутых путем создания государством системы комплекса мер (экономических, политических, социальных, военных), поддерживающих в обществе состояние защищенности (всех без исключения субъектов) от внешних и внутренних угроз.
Особую социальную и правовую актуальность исследуемая проблема приобрела в свете последних политических событий. После начала Вооруженными Силами России специальной военной операции (далее — СВО) на территории Украины западные государства во главе с США осудили Россию в неспровоцированной агрессии и оккупации суверенного государства, в уничтожении мирного населения путем обстрелов и авиаударов городов.
С опровержением этих сведений 24.02.2022 (12 час. 00 мин. по московскому времени) выступил официальный представитель Министерства Обороны России генерал-майор И. Конашенков, который сообщил, что «Вооруженные Силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят»1.
Российские власти для минимизации негативной информации в обществе и предупреждения протестных акций предприняли ряд необходимых социально-политических в действующее уголовное законодательство2; в настоящее время данные новеллы, приведенные в таблице 1, исследуются на предмет оптимальности юридических конструкций и практической эффективности.
Раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ был дополнен ст. 207.3 — в числе изменений и дополнений эта норма объективно выступает ключевой, наиболее важной. Впоследствии она уже претерпела изменения — диспозиция статьи была расширена3: законодатель включил и заведомо ложные сведения об исполнении государственными органами России своих полномочий за пределами территории РФ. В следующей редакции статья была расширена: «оказание добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач возложенных на ВС России»4.
Ответственность в ст. 207.3 УК РФ дифференцирована в трех частях: в ч. 1 преступления предусмотрены небольшой тяжести, а в чч. 2 и 3 тяжкие и особо тяжкие.
Одним из главных вопросов, объективно стоящих при анализе рассматриваемой статьи, как всякой другой нормы, служит соответствие степени общественной опасности предусмотренных в ней деяний установленным в ней санкциям.
Общественная опасность в данном случае характеризуется тем, что в результате совершения преступления нарушаются конституционные права граждан на получение достоверной информации об обстоятельствах использования ВС России, исполнении государственными органами России своих полномочий за пределами РФ, а равно содержащей данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач возложенных на ВС России, т. е. следует говорить о посягательстве на отдельный сегмент общественных отношений в сфере доступа к достоверной информации и качественного социального продукта в информационном пространстве. Заведомо ложная информации способна дестабилизировать спокойствие в обществе, побудить к конфликтам и представлять угрозу жизни и здоровью (например, в зарубежных странах после начала СВО и последующего необъективного освещения западными СМИ, распространения информации об использовании ВС России на территории Украины недозволенных международным правом методов проведения данной спецоперации, в прибалтийских странах и Польше обнаруживаются беспрецедентные русофобские настроения в отношении русскоязычных граждан, криминальные нападения на водителей отечественных автомобилей дальних рейсов, умышленное повреждение автомобилей с российскими номерами, неприятие русской речи1 и т. д.). В данном случае вред причиняется не только конкретной личности, но и значимым общественным интересам и социальным благам, охраняемым уголовным законом.
В специальной литературе указывается, что родовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 207.3 УК РФ, выступают общественная безопасность и общественный порядок — защищенность жизненно важных интересов общества и государства, гарантирующих социальную (включая социально-психологическую) стабильность, видовым — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от угроз общего характера и в том числе возникающих в связи с распространением заведомо ложной информации. Непосредственным объектом посягательства признается совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность. В качестве дополнительного выделяют жизнь и здоровье людей, здоровье населения, различные общественно значимые интересы и социальные блага.
Предметом преступления , предусмотренного ст. 207.3 УК РФ, служит информация — сведения заведомо ложного свойства, которые подаются под видом достоверных. Практика уголовных дел по данной категории идет по пути признания достоверной информацией официальные позиции Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России или пресс-служб соответствующих государственных органов, изложенные на брифингах, информационных ресурсах Правительства РФ и в «Российской газете». Юридически это означает, что не соответствующая ей любая информация (как полностью, так и частично) — самого различного характера сведения об использовании ВС России, а также отдельных событиях об исполнении государственными органами России своих полномочий, а равно содержащей данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач возложенных на ВС России могут быть признаны заведомо ложными.
С позиции доктрины, «распространение заведомо ложной информации» применительно к ст. 207.3 УК РФ можно определить как социальный продукт, отражающий окружающую действительность, зафиксированный в материальной форме, выраженный в недостоверных, искаженных сведениях (факты, события) об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, а равно содержащей данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач возложенных на ВС России, адресованный широкому кругу лиц, имеющих социально-политическое, общественно важное значение, о противоречии которых официальным данным компетентных органов Российской Федерации заранее известно лицу, ее распространяющему.
Правоприменители под информацией об использовании ВС России понимают выраженные языковыми средствами сведения о событиях действительности, положении дел, связанных с ВС России, а также их действиями [11]. Очевидно, что такое определение является чрезмерно широким и упрощенным, свободная трактовка предполагает, что любые сведения и события, связанные с ВС России, неправильно высказанные и истолкованные, уязвимы для злоупотреблений, позволяют правоохранительным органам вольно интерпретировать слова и тексты, избирательно привлекать любое лицо к уголовной ответственности по данной статье.
В этой связи нужно отметить необходимость в плане квалификации различать утверждение о конкретном факте от выражения личного субъективного суждения, оценки, мнения или обоснования тех или иных взглядов по тому или иному вопросу (например, призыв к обсуждению сводки новостей), поскольку иной подход лишает граждан свободы иметь собственную позицию, что, как известно, гарантировано ст. 29 Конституцией РФ. Имеющие значение для квалификации факты и события о недостоверных сведениях: о потерях личного состава1, числа раненных и без вести пропавших военнослужащих в период проведения СВО; об атаках на объекты гражданской инфраструктуры; количестве жертв среди мирного населения — можно проверить на соответствие действительности путем направления запросов в полномочные учреждения, организации, опросов очевидцев и осмотра места происшествия. Напротив, оценочные суждения и убеждения не признаются предметом преступления, так как не могут быть проверены на соответствие объективной реальности.
Растиражированные западными СМИ фотографии, сделанные 09.03.2022 после якобы имевшего места авиаудара по Мариупольскому роддому2, вызвали антироссийский ажиотаж у европейской аудитории.
Так, в новостной статье «The Associated Press» (одно из крупнейших международных агентств информации и новостей США) была размещена заведомо ложная информация, что «беременная женщина и ее ребенок погибли после того, как Россия разбомбила родильный дом, где она должна была рожать. Изображение женщины, которую на носилках доставили в машину скорой помощи облетела весь мир, олицетворяя ужас нападения на самых невиновных людей человечества»3.
10.03.2022 на брифинге (19 час. 30 мин. по московскому времени) представитель Минобороны России официально объявил, что «абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла»4. Имевшие место разрушения российские журналисты назвали фальсификацией (фейком)5, на постановочных сценах одна и та же модель сыграла несколько раз.
11.03.2022 на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций постоянный представитель В. Небензя заявил, что «фотография из роддома показывает, что он не подвергался ракетному удару, так как меньший заряд взрывчатки полностью сотрет здание с лица земли»6.
На официальном сайте СК России была размещена информация о том, что 22.03.2022 возбуждено уголовное дело по п. «д» по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ в отношении журналиста А. Невзорова7, который по версии следствия 09.03.2022 на свой публичной странице «Instagram» (запрещен в России) и 19.03.2022 на YouTube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в Мариуполе. Источники распространения этих изображений являются украинские СМИ. Минобороны России официально объявило о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет»1. На момент возбуждения уголовного дела А. Невзоров находился в Израиле, после получил политическое убежище и гражданство Украины.
Часть 1 ст. 12 УК РФ (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ) правоохранительные органы возбуждают уголовные дела в отношении граждан РФ за преступления, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом2. Уголовной ответственности за аналогичные действия могут привлекаться иностранные граждане. В целях исключения произвольного толкования, такие обстоятельства подлежат документальному установлению в ходе проверочных мероприятий и предварительного следствия, какие именно интересы России за рубежом были нарушены (например, Министерство иностранных дел РФ и другие заинтересованные ведомства, формулируют официальную позицию России по тому или иному вопросу).
Иллюстрация приведенного примера показывает, что основанием для возбуждения уголовного дела послужило публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, в части совершения военных преступлений, при официальном опровержении Минобороны России, то есть признание такой информации недостоверной.
27.10.2022 Нижегородский следственный комитет впервые в России прекратил уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ в отношении жителя Нижнего Новгорода. Основанием для возбуждения уголовного дело послужило размещение в сети Интернет заведомо ложной информации об использовании ВС России, а именно видео с участием М. Каца3 (Буча. Спецоперация по уничтожению мирных жителей от 3.04.20224) и написания комментария к ней. Уголовное дело прекращено, поскольку видео было выложено за несколько часов до официального опровержения Минобороны России о событии в украинском городе5.
Следующий вопрос о допустимости уголовного преследования за посты, опубликованные до 04.03.2022, то есть до того, как федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ был принят, одобрен, подписан и опубликован. Например, в следственном отделе расследуется уголовное дело в отношении экс-председателя местной ячейки «Альянса учителей» И. Толмачевой из Новосибирска (она написала не соответствующие действительности сведения, а именно комментарий в «Instagram» (запрещен в России) странице депутата С. Бойко, о потерях ВС России), которой вменяют возникновение умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России (ст. 207.3 УК РФ), до опубликования настоящего закона, по которой предъявлено обвинение6.
Хронометраж принятия вышеуказанного закона: 04.03.2022 в 15 час. 25 мин. на заседании Совета Федерации законопроект № 464757-7 был одобрен7, 22 час. 28 мин. информационное агентство ТАСС сообщило о подписании закона президентом8, 23 час. 23 мин. опубликован на официальном Интернет-пор-тале (, в часовом поясе в Новосибирске было уже 3 час. 23 мин. 5.03.2022.
При формальном подходе можно констатировать длящееся преступление с общественной опасностью и задаться вопросом, что сделало виновное лицо, после официального опровержения (попыталось ли удалить информацию признанной недостоверной из свободного доступа). Полагаем, что в данном случае нет состава преступления, поскольку ч. 2 ст. 54 Конституции РФ гарантирует, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Надзорным органам (прокуратуре и Роскомнадзору), в таких случаях следовало бы направлять предостережение и дать возможность самостоятельно удалить такую информацию.
Спорным на наш взгляд является привлечение к уголовной ответственности лиц по настоящей статье за публикации до официального опровержения компетентными органами. Так, журналист медиапроекта «Сибирь. Реалии» А. Новашов из Кузбасса (разместил репост в социальной сети «ВКонтакте» с недостоверной информацией об авиаударах по г. Мариуполь до официального опровержения Минобороны) осужден Рудничный районным судом г. Прокопьевска по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ и запрет заниматься публицистической деятельностью на срок один год1.
Согласно данным ГИАЦ МВД России за первое полугодие 2022 года в России всего зарегистрировано 113 преступлений, квалифицируемых по ст. 207.3 УК РФ; из них уголовных дел, расследованных в процессе предварительного следствия — 15, а направленных в суд с обвинительным заключением — 14. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в Центральном Федеральном округе — 36 (г. Москва — 25) и Сибирском — 25 (Алтайский край — 8)2.
Для сотрудников правоохранительных органов (ФСБ России, ЦПЭ МВД России), работающих в данном направлении, разработан перечень мероприятий по выявлению материалов, содержащих недостоверную информацию об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, предполагающий предварительную проверку представляющих интерес, в данным аспекте, материалов, в целях установления и последующего юридического (процессуального) закрепления факта их несоответствия официальным данным, путем сопоставления со сведениями компетентных источников, в том числе посредством запросов в уполномоченные органы РФ.
При этом востребовано проведение лингвистических экспертиз. Отсутствие речевых текстах слов, каким-либо образом обозначающих группы «ВС России», «российская армия», «российские военные», «росгвардия» и других госорганов, указывает о не соотнесении содержания текста с диспозицией ст. 207.3 УК РФ и исключает уголовную ответственность.
Объективная сторона состава ч. 1 ст. 207.3 УК РФ сконструирована по типу формальной — преступление считается оконченным с момента публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий.
Законодатель подразумевает, что до распространения информации необходимо проверить их на достоверность. Статья 49 Закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовых информации» прямо обязывает журналиста проверять достоверность сообщаемой им информации3.
Выше уже отмечалось о переводе постсоветской России на путь демократических реформ, она стимулирует активность граждан в социальной и политической сферах жизнедеятельности, что предполагает формирование механизмов обеспечения населения правдивой информацией, декларирует принципы широкого участия населения в данных сферах жизнедеятельности и признание норм международного права. Закон от 27.12.1991 № 2124-1 не предусматривает обязанности использования СМИ и журналистами сведений и материалов исключительно с национальных официальных источников. Однако 24.02.2022 Роскомнадзор на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором предписывал «СМИ и информационным ресурсам при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной военной операции использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников»1.
По мнению правозащитников, такое склонение журналистов к обращению только к официальным источникам ведет к ущемлению и цензуре, а само существование ст. 207.3 УК РФ является нарушениям базовых принципов свободы слова2. В частности, ст. 19 «Международный пакт о гражданских и политических правах» предусматривает, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений3 (Российская Федерация является участником этого международного договора в качестве государства — продолжателя Союза ССР4).
За несколько дней после принятия вышеуказанных поправок в УК (таблица 1) большая часть журналистов перестали освещать события в России, а зарубежные издания СМИ прекратили свое существование на территории РФ из-за вероятности уголовного преследования.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает ограничение недостоверной информации (ст. 15.3)5, а за распространение таковой предусмотрена административная ответственность (ст. 13.15 КоАП РФ, злоупотребление свободой массовой информации).
Значение понятия «публичный» толковым словарем определяется как «совершающийся в присутствии публики, открытый, гласный» [12, с. 562]. Юридическая его трактовка в действующем законодательстве закрепления не нашла, но Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что действия, обращенные к другим лицам в любой форме, следует считать публичными (как с использованием технических средств, так и в устной или письменной)6.
В то же время обратим внимание на то, что привлечение к уголовной ответственности по ст. 207.1 УК РФ за распространение заведомо недостоверной информации о распространении вируса СOVID-19 возможно не только когда действия гражданина носят публичный характер, но и если такое распространение представляет реальную общественную опасность (например, искусственное повышение уровня социальной тревожности или провокация паники среди населения)7.
В отличие от смежных ст. 205.2 и 282 УК РФ в ст. 207.3 УК РФ объективная сторона не предусматривает способа совершения преступления (с использованием средств массовый информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ под информацией следует понимать сведения (сообщения, данные) — независимо от формы и представления. В данное понятие законодатель вкладывает весьма широкое содержание, а форма передачи информации включает в себя СМИ и информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет».
Исходя из правила о единообразии изложения законодательного материала представляется целесообразным дополнить диспозицию ст. 207.3 УК РФ указанным признаком.
Субъект рассматриваемой статьи общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого умысла. Виновный осознает публичность распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах использования ВС России, исполнение государственными органами РФ своих полномочий, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также о принимаемых мерах по поддержанию мира и безопасности населения, защиты территориальной целостности, приемах и способах этой защиты и желает их распространить.
Часть 2 ст. 207.3 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС России, совершенное: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) с искусственным созданием доказательств обвинения; г) из корыстных побуждений; д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Приведенный выше квалифицирующий признак/мотив ненависти или вражды в большей части относится к разновидностям преступлений с экстремисткой направленностью. В этой части было бы логично размещение ст. 207.3 УК РФ в главе «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Однако на уровне непосредственного объекта, преступление совершается против общественной безопасности. Следовательно, нормы, охраняющие общие родовые отношения, не могут находиться в разных главах. В этой связи для устранения противоречий необходимо исключить часть 2 из рассматриваемой статьи.
Тяжкие последствия, предусмотренные в норме, предусматривают различного рода факты, события, явления, имеющие особую значимость для общественной жизни, в результате которых создается опасность гибели людей (например, авария, нарушение деятельности транспорта, служб жизнеобеспечения и т. п.).
Уголовная ответственность за деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, заключена в лишении свободы до 3 лет, но по чч. 2 и 3 наказание строже в четыре раза — соответственно до 10 и 15 лет. На лицо законодательная непоследовательность при регламентации наказания и необходимость правильного установления степени общественной опасности и ее отражения в санкциях. Данный вопрос относится в уголовном праве к наиболее сложным.
Определения обстоятельств, требующих пересмотра с целью оптимизации, зачастую уместно обратиться к материалам уголовных дел. В числе таких можно привести, первый суровый приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 8.07.2022, которым депутат А. Горинов был осужден по пп. «а», «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ; ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима одновременно с запретом занимать государственные должности в течение 4 лет — он обвинялся в том, что используя свое служебное положение, руководствуясь мотивом политической ненависти и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, под видом достоверных сведений распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС России1.
Следует заметить, что чрезмерные меры в отношении лиц, публично распространивших заведомо ложную информацию2, как и в других ситуациях, предусматривающих излишне строгие наказания (это признано аксиомой среди специалистов соответствующего профиля), не выполняют функции обеспечивающее безопасность личности, общества и государства от преступных посягательств и не сдерживают преступность от совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Вопрос о завышенных карательных средствах, который мы отмечаем, требует пересмотра с позиции надлежащего, объективного и оптимального регулирования. Необходимо исходить из характера и степени общественной опасности содеянного3, а не из-за общественного резонанса и внутренней ситуацией в стране. Данная проблема должна быть решена на основе последующих научных и практических изысканий.
В обоснование приведем несколько примеров из практической работы автора в правоохранительных органах:
24.12.2007 Волжский городской суд Республики Марий Эл приговорил Я. по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. 14.10.2011 Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл удовлетворил ходатайство Я. об условно-досрочно освобождении при оставшемся сроке в 1 год 10 мес. 28 дней. Согласно справке об освобождении от 18.10.2011 Я. отбывал наказание в местах лишения свободы с 13.07.2007. по 18.10.2011, то есть общий срок составил 4 года 3 мес. 5 дней.
20.08.2010 Приволжский городской суд г. Казани Республики Татарстан приговорил Е. по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 7.03.2013 на основании постановления Алатырского районного суда Чувашской Республики Е. была условно-досрочно освобождена при неотбытом сроке наказания в 1 год 2 мес. 2 дня. Согласно справке об освобождении от 18.10.2011 Е. отбывала наказание в местах лишения свободы с 10.05.2010 по 19.03.2013, всего 2 года 10 мес. 9 дней.
Приведенные доводы находят подтверждение и с позиции системности действующего УК РФ при сопоставлении его различных положений. Очевидна существенная, значительная разница по степени общественной опасности при сравнении убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ1, с публичным распространением заведомо ложной информации (чч. 2, 3 ст. 207.3 УК РФ). Было бы необоснованно ставить знак равенства между данными преступлениями. За высказанные публично заведомо ложные слова виновные лица получают в наказание больше реального срока лишения свободы, чем за конкретные насильственные действия, повлекшие смерть человека — в данном аспекте не обеспечивается принцип справедливости.
Аналогичные нарушения принципа справедливости, требование к соблюдению которого законодатель закрепил в ч. 1 ст. 6 УК РФ, можно наблюдать и в различных других смежных составах УК. Некоторые авторы критикуют позицию законодателя, выраженную в чрезмерной криминализации подстрекательства и пособничества в совершении этих преступлений [13]. Например, по ч. 1 ст. 205 и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ при совершении террористического акта для непосредственного исполнителя предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы, тогда как за пособничество его совершению предусмотрено то же наказание сроком от 10 до 20 лет [14].
Описанные выше обстоятельства позволяют говорить о системном характере и о необходимости внесения корректировки в УК.
Проведенный анализ позволяет предложить внести изменения в санкцию ст. 207.3 УК РФ, перевести его в категорию преступлений средней тяжести.
В КоАП РФ отсутствует ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, исполнении государственными органами РФ своих полномочий в отличие от ст. 20.3.3, 203.4 КоАП РФ, предусматривающих административную преюдицию — ст. 280.3, 284.2 УК РФ (таблица 1).
Отечественный законодатель последовательно вводит в УК РФ составы, сконструированные с административной преюдицией, заметна тенденция их расширения (ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 212.1, 215.4, 264.1, 264.2, 264.3, 280.1, 280.3, 282, 284.1, 284.2, 314.1, 315 УК РФ). С целью единства систематизации законодательных рубрик, обеспечения одинакового подхода, представляется целесообразным введение административной преюдиции в ст. 207.3 УК РФ, что будет отвечать реалиям нашего времени и служить средством гуманизации уголовно-правовых институтов, одновременно позволяя сглаживать резкие переходы от ответственности административной к уголовной.
Дополнение «административной преюдиции» в ст. 207.3 УК РФ является: во-первых, должной мерой, которая позволит достичь целей уголовной политики в профилактике преступлений, а также оказать положительный результат в борьбе с преступностью; во-вторых, для практических работников, административная преюдиция позволяет говорить о прямом умысле при повторном размещении недостоверной информации; в-третьих, механизм реагирования на административные правонарушения гораздо оперативнее и значительно менее затратное, чем уголовное преследование.
Заключение
Подводя итоги, перечислим основные выводы:
-
1. Изложить ст. 207.3 УК РФ в следующей редакции:
-
2. Исключить 2 и 3 части из ст. 207.3 УК РФ;
-
3. Дополнить аналогичной статьей КоАП Российской Федерации;
-
4. Предпосылкой уголовной ответственности может быть совершение однократного административного нарушения в течение одного года — при обязательном уведомлении/ предупреждении виновного о том, что при повторном правонарушении, оно будет привлечено к уголовной ответственности.
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно содержащей данные об оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач возложенных на ВС России, совершенные, в том числе с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — … далее по тексту статьи;
Список литературы Проблемы правового регулирования ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Воору- женных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. Том 1. Москва: Русский язык, 1989. 699 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд. Москва: Русский язык, 1990. 921 с.
- Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 2 томах. Т. 2. Особенная часть. Москва: Юридическая литература, 2004. 832 с.
- Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юстицинформ, 2006. 528 с.
- Шевченко И. В. Уголовная ответственность за террористическую деятельность: монография. Москва: Юрлитинформ, 2011. 176 с.
- Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4: учебник для вузов / под ред. Г. Н. Борзенкова и В. С. Комиссарова. Москва: Зерцало-М, 2002. 672 с.
- Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. д-ра юрид. Наук проф. А. Н. Игнатова и д-ра юрид. наук проф. Ю. А. Красикова. Москва: НОРМА, 2000. 816 с.
- Дрожжина Е. А. Общественная безопасность как объект преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2015. 27 с.
- Утянский В. И. Правовые аспекты реализации мер безопасности в местах лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2005. 234 с.
- Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан, И. А. Тарханова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2020. 992 с.
- Информационное письмо МВД России об особенностях назначения и проведения лингвистических экспертиз (исследований) материалов, связанных с распространением заведомо ложной информации в отношении Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитацией их действий, а также с призывами к ведению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации и ее граждан (от 30.03.2022 № 1/3201).
- Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2014. 800 с.
- Гладких В. И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический анализ // Российский следователь. 2014. № 5. С. 34–38.
- Степанов-Егиянц В. Г. Некоторые вопросы квалификации содействия террористической деятельности. Российский следователь, 2018, № 2. С. 43–46.