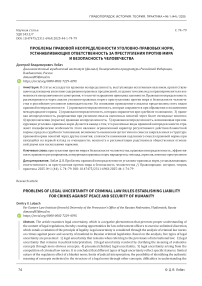Проблемы правовой неопределенности уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления против мира и безопасности человечества
Автор: Лобач Д.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется правовая неопределенность, выступающая негативным явлением, препятствующим надлежащему уяснению содержания правовых предписаний, создавая тем самым для правоприменителя возможности неограниченного усмотрения, что влечет нарушение принципа законности. Правовая неопределенность рассматривается через анализ уголовно-правовых норм о преступлениях против мира и безопасности человечества в российском уголовном законодательстве. На основании проведенного анализа представлены пять видов правовой неопределенности: 1) правовая неопределенность, которая сохраняется при обращении к положениям международного права; 2) правовая неопределенность, которая сохраняется при судебном толковании; 3) правовая неопределенность, разрешаемая при уяснении смысла оценочных понятий через более очевидные понятия; 4) предполагаемая (скрытая) правовая неопределенность; 5) правовая неопределенность, возникающая при конкуренции уголовно-правовых норм. Делается вывод о том, что различные виды правовой неопределенности отражают специфические особенности этого явления: ограниченный характер регулятивного действия бланкетной нормы; пределы судебного толкования; возможность выявления аутентичного смысла закрепленных в структуре правовой нормы понятий через другие понятия; сложности понимания подлинного смысла правовой нормы при кажущейся на первый взгляд ее очевидности; неясность в регламентации родственных общественных отношений двумя или несколькими нормами.
Преступления против мира и безопасности человечества, правовая неопределенность, эффективность правового регулирования, конкуренция правовых норм, мародерство, геноцид, агрессия, военные преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/14133286
IDR: 14133286 | УДК: 343.3/7 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-74-79
Текст научной статьи Проблемы правовой неопределенности уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления против мира и безопасности человечества
В юридической литературе широкое распространение приобретает вопрос правовой неопределенности нормативных положений, регулирующих общественные отношения в различных сферах жизни общества и государственного управления [2; 3; 7]. Правовая неопределенность представляет собой ситуацию, когда смысл правовой нормы неоднозначен, неясен или противоречив в понимании, в результате чего происходит размывание границ регулятивного действия правовой нормы, создаются условия для ее неправильного применения, а также возникают сложности в правовой квалификации. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что правовая неопределенность препятствует надлежащему уяснению содержания правовых норм, открывает перед правоприменителем возможности неограниченного усмотрения, ослабляющего гарантии конституционных прав и свобод1.
В свою очередь, неопределенность юридического содержания правовых норм создает условия для снижения эффективности механизма правового регулирования, поскольку запланированная модель упорядочивания общественных отношений (модель должного) не достигается в полном объеме, а возникающий порядок регулирования социальных отношений (модель сущего) демонстрирует противоречие целям, постулируемым законодателем в рамках правовой политики, что закономерным образом может привести к ослаблению доверия к власти.
Неопределенность социальных отношений, включая неопределенность в правовом регулировании, выступающем одним из проявлений правового воздействия, является непреходящей проблемой как в исторической ретроспективе, так и в современных условиях. Так, еще в античном мире такие известные мыслители, как Платон и Аристотель, рассматривали явление неопределенности в фокусе философского мировоззрения как некое отклонение от идеальной формы мироустройства в его онтологическом выражении. В XVIII в. известный представитель эпохи Просвещения Ш. Л. де Монтескье своем знаменитом трактате по политической философии
«О духе законов», рассматривая проблему несовпадения смысла (духа закона) и текста (буквы закона), отмечал, что недопустимы противоречия и неопределенность в законах, которыми руководствуются суды в своей деятельности, как нечто противное духу умеренного образа правления [5, с. 78].
Правовая неопределенность объясняется рядом причин: особенности языка изложения правовых нор-м;несоблюдение правил формальной логики; несовершенство юридической техники; низкий уровень правовой культуры; динамика социальных отношений, предопределяющая иное прочтение смысла правовой нормы; сложность самих отношений, требующих правового регулирования [4; 8]. Последняя причина отражает рассогласованность между потребностью в правовом регулировании, обусловленной политическими, экономическими, социальными, психологическими, идеологическими, международными и другими факторами, и пониманием существа социальных отношений, требующих такого регулирования. Государство, признавая необходимость решения этой задачи, неспособно этого сделать в полном объеме по причине еще несформиро-вавшегося понятийно-категориального аппарата и (или) отсутствия оптимальных параметров адекватного регулирования. Другими словами, возникает ситуация, когда сложный характер социального взаимодействия, проявляемый в многоуровневом укладе общества, охватывающем все многообразие информационных, технологических, культурных, политических, экономических, образовательных и других факторов, актуализирует насущную потребность нормативного закрепления такого взаимодействия в правовые рамки, однако сделать это в полном объеме не представляется возможным, так как социально-коммуникационные институты не могут быть адекватно представлены юридическим языком.
Вместе с тем сама неопределенность в правовой норме отражает степень ее абстрактности, что является закономерным признаком нормативного регулирования в отличие от казуального способа упорядочивания отношений. Допустимая неопределенность в правовой норме создает условия для диспозитивного усмотрения возможности применения нормативного положения к ситуациям, которые не могут быть строго зафиксированы в нормативном предписании. Кроме того, неопределенность в праве зачастую выступает закономерным следствием изменений социальных отношений, приводящих к новому смысловому наполнению правовой нормы без преобразования ее текстуальной части. Такой подход отражает так называемую теорию «живого права», которая постулирует генетическую связь права с динамикой социальных отношений. В соответствии с этой теорией право нельзя рассматривать в «чистом» виде безотносительно к той социальной реальности, в которой осуществляется правовое регулирование, так как только социальная жизнь во всем своем многообразии закладывает смыслообразующую основу правовой надстройки [10].
Материал и методы
В статье анализируются нормы российских и международных правовых актов, определяющих уголовноправовое регулирование ответственности за общественно опасные деяния, посягающие на мир и безопасность человечества, в контексте правовой неопределенности их содержания. Основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы научного познания, анализ теоретических и нормативных правовых источников, герменевтический методы.
Описание исследования
Правовая неопределенность как негативный спутник правотворчества проявляется по-разному, что можно продемонстрировать на примере конструирования уголовно-правовых норм о преступлениях против мира и безопасности человечества в российском уголовном законодательстве. Анализ указанных норм позволяет выявить пять видов правовой неопределенности: 1) правовая неопределенность, которая сохраняется при обращении к положениям международного права; 2) правовая неопределенность, которая сохраняется при судебном толковании; 3) правовая неопределенность, разрешаемая при уяснении смысла оценочных понятий через более очевидные понятия; 4) предполагаемая (скрытая) правовая неопределенность; 5) правовая неопределенность, возникающая при конкуренции уголовноправовых норм.
-
1. Правовая неопределенность, которая сохраняется при обращении к положениям международного права. Данный вид правовой неопределенности можно продемонстрировать на примере уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), а также за совершение публичных призывов к ее развязыванию (ст. 354 УК РФ). Понятие агрессивной войны в указанных нормах отсутствует. В науке уголовного права в абсолютном большинстве случаев данное понятие раскрывается через отсылку к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. «Определение агрессии»1, что, казалось бы, снимает вопрос о точности правового смысла рассматриваемой нормы. Однако неопределенность данного понятия все же сохраняется, так как резолюция Генеральной
-
2. Правовая неопределенность, которая сохраняется при судебном толковании. Правовая неопределенность может быть преодолена посредством разъяснения высших судебных инстанций, которые осуществляют официальное (нормативное) толкование правовых норм. Толкование права, будучи мыслительным (познавательным) процессом, направленным на объяснение знаковой системы, также выступает в качестве результата юридической деятельности, отражающего подлинный смысл правовой нормы в системе правового регулирования. Бесспорным является значение юридического толкования в механизме правового регулирования. Это значение выражается в обеспечении режима законности, смягчении недостатков в содержании правовых актов, возникающих по причине неправильного или неполного использования средств и приемов юридической техники, завершении процесса регламентации общественных отношений [1, с. 293]. Вместе с тем толкование права может как устранять правовую неопределенность в полном объеме, так и снижать ее до приемлемого уровня, позволяющего правоприменителю наиболее правильным образом осуществлять реализацию права. Так,
например, одним из видов вербальных преступлений являются публичные призывы к совершению определенных уголовно-наказуемых деяний. Сами публичные призывы к совершению конкретных преступлений раскрываются в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по делам о терроризме (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»1) и экстремизме (постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-ленности»2). В соответствии с разъяснениями высшей судебной инстанции под публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. Ключевое отличие публичных призывов от подстрекательства к совершению преступления заключается в критерии определенности: публичные призывы обращены к неопределенному кругу лиц, в то время как подстрекательство — к конкретному лицу. Вместе с тем судебное толкование публичных призывов к совершению конкретного преступления не дает ответа на вопрос о том, как разграничивать подстрекательство в отношении двух и более известных (индивидуально определенных) лиц, совершенные в одном месте и в одно время. Такая ситуация становится возможной, например, когда происходит собрание трудового коллектива или объединение верующих для отправления религиозного культа, где каждый поименно известен лицу, осуществляющего такие призывы. В подобных случаях происходит размывание критерия определенности в понимании публичности призывов.
-
3. Правовая неопределенность, разрешаемая при уяснении смысла оценочных понятий через более очевидные понятия. Как уже было сказано, неопределенность права связана с оценочными понятиями, которые часто используются вместе с конкретными в своем содержании понятиями. Преодоление правовой неопределенности в этом случае выражается в экстраполировании общего родового значения всех конкретных по содержанию понятий, перечисляемых в диспозиции правовой нормы в последовательной связке, на оценочное понятие, искомый смысл которого только следует определить. Сказанное можно проиллюстрировать на примере диспозиции правовой нормы ст. 361 УК РФ, предусматривающей ответственность за акт международного
-
4. Предполагаемая (скрытая) правовая неопределенность. Некоторые формулировки уголовно-правовых норм в силу их буквального толкования являются как бы очевидными в понимании, но в привязке к нормам международного или российского права все же отражают некоторую степень неопределенности. Так, в соответствии с нормой ст. 357 УК РФ одним из проявлений геноцида выступают убийства членов соответствующей демографической группы. Указание на множественное число означает, что убийств должно быть не менее двух. Однако, исходя из Элементов преступлений Римского статута Международного уголовного суда (далее — МУС), геноцид может быть оконченным и при совершении хотя бы одного убийства. Несмотря на то, что Российская Федерация не признает юрисдикцию МУС, наше государство несет международные обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.3, положения которой были имплементированы в национальное уголовное законодательство. В свою очередь, статутная модель геноцида полностью повторяет конвенционную модель этого преступления.
-
5. Правовая неопределенность, возникающая при конкуренции уголовно-правовых норм. Например, норма ст. 356УК РФ содержит два практически идентичных квалифицированных состава мародерства (п. «в» ч. 3 и п. «в» ч. 4 ст. 356 УК РФ). Положение п. «в» ч. 3 ст. 356 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет за совершение мародерства с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а санкция нормы п. «в» ч. 4 ст. 356 УК РФ уже предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет за содеянное
Ассамблеи ООН не является международным договором и не порождает международных обязательств для государств в части криминализации определенных деяний на национальном уровне [9, с. 23–44]. Понятие агрессивной войны, используемое в уголовно-правовых нормах ст. 353 и ст. 354 УК РФ, раскрывается как имплицитное явление, смысл которого определяется историко-правовым толкованием нормы п. «а» ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала, впервые установившего уголовно-правовой запрет на деяния, составляющие преступления против мира. Вместе с тем в конструкции преступлений против мира также отсутствует легальное определение агрессивной войны, что объясняется конкретноисторическими условиями отправления правосудия над высшими руководителями нацистской Германии, ответственных за развязывания агрессивных войн, повлекших нарушение мирного сосуществования государств и народов. Таким образом, кажущаяся определенность анализируемого понятия, заключаемая в соответствии смысла понятия тем конкретно-историческим условиям, при которых проводился Нюрнбергский процесс, сменяется на абсолютную неопределенность в современных условиях, так как параметры правомерности применения силы в практике международных отношений не сформировались в полной мере. По этой причине квалифицировать применение одним государством своих вооруженных сил против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности другого государства в качестве акта агрессии в рамках нюрнбергской модели агрессии было бы не совсем правильно, так как при неизменности оценки общественной опасности агрессии происходят изменения в понимании того, что такое вооруженная сила, положенная в основу данного явления, а также меняются критерии правомерности применения силы в международных отношениях.
терроризма. Объективная сторона этого преступления заключается в совершении взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации. Через указание на иные действия, подвергающие опасности социально значимые и охраняемые законом блага, законодатель расширяет диапазон возможных действий, которые могут совершаться для целей терроризма. Такое законодательное решение объясняется невозможностью перечисления в правовой норме всех возможных деяний, совершаемых в качестве акта терроризма, что и отражает нормативный характер правового предписания. В то же время неопределенность иных действий, совершаемых в качестве акта терроризма, разрешается через указание на их общественную опасность — они должны подвергать опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность других лиц.
Из общей теории международного договорного права известно, что конвенционные положения, закрепляя международные обязательства, должны аутентично восприниматься и единообразно реализовываться всеми субъектами международного права, а как следствие — необходимо не только закрепление в национальном законодательстве нормативных положений международных договоров с учетом особенностей юридической техники и специфики национального правотворчества, но и унифицированное понимание смысла этих положений. Единообразное понимание смысла нормы о геноциде, являющейся результатом имплементации Конвенции о геноциде, продуцируется накопленным опытом реализации международной уголовной ответственности за геноцид, получившего нормативное закрепление в Элементах преступлений. Учитывая специфику профессионального правосознания российских правоохранителей и судей, характеризуемого знаниями национального позитивного права, сложившейся правоприменительной практики и достижений правовой доктрины, незначительную практику применения нормы ст. 357 УК РФ, а также связь этой нормы с Конвенцией о геноциде, следует признать возможным опираться на Элементы преступлений в той мере, в которой интерпретационные положения этого документа адаптируют правовой смысл нормы ст. 357 УК к конвенционной модели геноцида, но при условии приоритетного обеспечения национальных интересов Российской Федерации.
Таким образом, раскрытие правового смысла уголовно-правовой нормы ст. 357 УК становится возможным через толкование нормы о геноциде, закрепленной в Римском статуте МУС, при том что сам документ безусловно не является юридически обязательным для России.
Похожая ситуация наблюдается и с нормой о мародерстве (ст. 356 УК РФ). Одним из обязательных признаков объективной стороны этого преступления является его совершение в период военного положения. Казалось бы, смысл нормы понятен в силу ее очевидности in concreto . Между тем толкование нормы в части определения оснований для введения военного положения, закрепленных в Федеральном конституционном законе от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»1, создает неясность в понимании законодательной логики. Дело в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 3 этого закона режим военного положения может вводиться на основании агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Что касается состоявшейся агрессии, то здесь вопросов не возникает — государство вводит особый режим, так как факт агрессии означает начало вооруженного конфликта или возникновение состояния войны. Однако в случае угрозы агрессии вооруженного конфликта еще нет, а хищения, совершенные в период военного положения, введенного на этом основании, должны квалифицироваться как мародерство, то есть как военное преступление.
с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Таким образом, налицо необоснованное законодательное повторение угрозы тяжкого вреда здоровью как квалифицирующего признака мародерства, закрепленного непосредственно в п. «в» ч. 4 ст. 356 УК РФ, и как часть более общего понятия — угроза насилием, опасным для жизни или здоровья (п. «в» ч. 3 ст. 356 УК РФ). Строго говоря, правовая неопределенность здесь возникает не в силу отсутствия четкого понимания смысла угрозы причинением тяжкого вреда здоровью — содержание данной конструкции сложилось в правоприменительной практике и уточняется в науке уголовного права, — а потому, что возникает двойственность возможной квалификации, в связи с чем перед правоприменителем встает вопрос о подлинном смысле двух норм, каждая из которых может быть применена в конкретной ситуации.
Заключение и выводы
Правовая неопределенность уголовно-правовых норм препятствует надлежащему уяснению их содержания, создавая тем самым для правоприменителя возможности неограниченного усмотрения, что влечет нарушение принципа законности. Анализ уголовно-правовых норм о преступлениях против мира и безопасности человечества в фокусе рассмотрения различных видов правовой неопределенности позволяет выявить специфические особенности рассматриваемого явления. Так, правовая неопределенность, которая сохраняется при обращении к положениям международного права, демонстрирует ограниченный характер регулятивного действия бланкетной нормы; правовая неопределенность, которая сохраняется при судебном толковании, показывает пределы права интерпретационной деятельности судов; правовая неопределенность, разрешаемая при раскрытии смысла оценочных понятий, демонстрирует возможность выявления аутентичного смысла закрепленных в структуре правовой нормы понятий через другие понятия; предполагаемая (скрытая) правовая неопределенность обнаруживает сложности понимания подлинного смысла правовой нормы при кажущейся на первый взгляд ее очевидности; правовая неопределенность, возникающая при конкуренции уголовно-правовых норм, отражает неясность в регламентации родственных общественных отношений двумя или несколькими нормами.
В целях повышения эффективности уголовно-правового регулирования отношений, составляющих международный мир и безопасность человечества, учитывая регулятивное действие принципа законности, охватывающего также и условие правовой определенности нормативных положений [6], и адекватную допустимость неопределенности таких положений в связи с их нормативной природой, представляется целесообразным (в контексте доминант правовой политики) модернизировать рассматриваемые нормы с учетом общих принципов правотворчества, правил юридической техники и специфики национального понятийно-категориального аппарата. В этой связи норма ст. 353 УК РФ требует конкретизации через легальное закрепление понятия «агрессивная война», норму о военных преступлениях необходимо реконструировать для оптимизации юридического содержания и ограничения широты отсылки к международному праву (по сути, норма аккумулирует содержание международного гуманитарного права). При толковании норм о геноциде и мародерстве (разновидность военных преступлений) следует исходить из смысла международно-правовых норм, сложившейся правоприменительной практики и политико-правовой природы (сущности) международных преступлений.