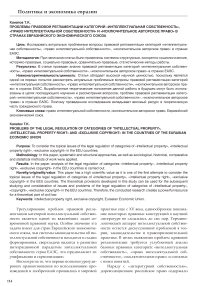Проблемы правовой регламентации категорий "интеллектуальная собственность", "право интеллектуальной собственности" и "исключительное авторское право" в странах Евразийского экономического союза
Автор: Канатов Танат Канатович
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Политика и экономика Евразии
Статья в выпуске: 3 (40), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследовать актуальные проблемные вопросы правовой регламентации категорий «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «исключительное авторское право» в странах ЕАЭС. Методология: При написании статьи были применены системно-структурные, конкретно-социологические, историко-правовые, социально-правовые, сравнительно-правовые, статистические методы работы. Результаты: В статье проведен анализ правовой регламентации категорий «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «исключительное авторское право» в странах ЕАЭС. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку является одной из первых попыток рассмотреть актуальные проблемные вопросы правовой регламентации категорий «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «исключительное авторское право» в странах ЕАЭС. Выработанные теоретические положения данной работы в будущем могут быть использованы в целях последующего изучения и рассмотрения вопросов, проблем правовой регламентации категорий «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «исключительное авторское право» в странах ЕАЭС. Поэтому проведенное исследование вкладывает весомый ресурс в теоретическую часть гражданского права.
Право интеллектуальной собственности, исключительное авторское право, евразийский экономический союз
Короткий адрес: https://sciup.org/140244622
IDR: 140244622
Текст научной статьи Проблемы правовой регламентации категорий "интеллектуальная собственность", "право интеллектуальной собственности" и "исключительное авторское право" в странах Евразийского экономического союза
Урегулирование проблем правовой регламентации категорий интеллектуальной собственности является одной из важнейших задач современной правовой науки. Особое значение эта задача имеет для стран Евразийского экономического союза, чьи системы законодательства об интеллектуальной собственности находятся в стадии формирования, сверхзадача видится в развитии интеграционной парадигмы интеллектуальной собственности стран ЕАЭС, что предполагает их унификацию и гармонизацию.
Несмотря на то, что первые попытки урегулировать правоотношения по использованию произведений и изобретений проявились в мировой практике еще с XV века, единообразное понимание некоторых правовых конструкций в научной литературе не сложилось до сих пор. Терминологический аппарат интеллектуальной собственности остается дискуссионной проблемой в теории, законодательстве и правоприменительной практике. В целях выявления проблем правовой регламентации требуется углубленный анализ базовых правовых категорий: «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности», «исключительное право» и смежных с ними понятий.
Наряду с «литературной собственностью», дореволюционное российское право содержало понятия: «художественная собственность», «фотографическая собственность», «художественнопромышленная собственность», «музыкальная собственность». Так, собственность художественная понималась как исключительное право автора повторять, издавать и размножать оригинальное произведение всеми возможными способами; фотографическая собственность отличалась от понимания художественной тем, что в ней отсутствовала «духовная связь творца с творением» [8]; объект художественно-промышленной собственности понимался как произведение, имеющее «утилитарное назначение» [5]; объектом права музыкальной собственности считалось оригинальное произведение, в котором «замысел автора выразился в самостоятельном развитии мелодии (идея произведения) и гармонии (форма произведения)» [9].
Первая существенная проблема гармонизации и унификации терминологического аппарата стран ЕАЭС вытекает из несоответствия определения понятия «интеллектуальная собственность» в национальном законодательстве стран Союза и международно-правовых документах. Это одна из общих и трудноразрешимых проблем, присущих терминологическому аппарату стран ЕАЭС.
Следует заметить, что уже к ХХ столетию в представлениях об интеллектуальной собственности обозначился явный раскол между цивилистами континентальной Европы, позиции которых поддерживали российские правоведы, и представителями англо-американской школы. Если первые разграничивали права на литературно-художественную и промышленную собственность, то вторые рассматривали все объекты ИС как товары, участвующие в экономическом обороте.
Современные зарубежные авторы понимают интеллектуальную собственность (от англ. intellectual property) как нематериальный актив, в отличие от материальной собственности на вещь, так же как и «права интеллектуальной собственности» (intellectual property rights). ИС определяются как права на нематериальные объекты, полученные в результате творческого труда индивидуума (знания, идеи), в отличие от права собственности на вещь (права материальные). В этом смысле часто употребляется категория «права интеллектуальной собственности» (intellectual property rights), под которой подразумеваются авторские и смежные права (copyright), патентные права (patent rights), права дизайна (design rights), права на товарные знаки (trademark rights), ноу-хау (trade secrets rights) и др. [6].
Взгляды современных законодателей и правоведов стран ЕАЭС тоже совпадают далеко не всегда. Если обратиться к анализу мнений, представленных в научной литературе, то единства подходов относительно соотношения категорий «интеллектуальная собственность» и «право интеллектуальной собственности» не достигнуто. Существуют сотни определений указанных категорий, и порой сложно сделать выбор в пользу того или иного подхода. Но наблюдаются определенные тенденции. Например, в современной литературе термины «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права» и «право интеллектуальной собственности» нередко отождествляются, что является недопустимым упрощением и концептуально неверным.
Термин «интеллектуальные права» был предложен Э. Пикаром (E. Picard) в 1879 г., бельгийский ученый относил интеллектуальные права (jura in re intellectuali) к правам sui generis, находящимся вне классического деления прав на вещные, обязательственные и личные. Пикар считал, что интеллектуальные права существенно отличаются от права собственности (по времени, территории действия, объему охраны, особенностям использования). При этом Пикар выделил в составе интеллектуальных прав два элемента: личный (присущий автору, неимущественный) и имущественный (экономический) [3].
В мировой практике эта традиция сохранилась, интеллектуальные права подразделяют на moral rights (моральные права) и economic rights (экономические права). В свою очередь ВОИС рассматривает моральные права как права, существующие помимо исключительных прав экономического характера.
Хотя в правовой науке и законодательстве анализируемые термины, безусловно, имеют, прежде всего, юридическое значение и не могут трактоваться буквально, попытки имплементации правовых категорий «моральное право» и «экономическое право» в доктрины ИС стран ЕАЭС не имеют перспективы в силу как социально-культурной, так и цивилистической традиций.
Анализ категории «интеллектуальные права» в законодательстве стран Союза показывает, что их определение присутствует только в ГК РФ и сформулировано далеко не лучшим образом: «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исклю- чительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)» (ст. 1226 ГК РФ).
В понимании российского законодателя интеллектуальные права практически не имеют ничего общего с вещными правами. Так, в п. 1 ст. 1227 ГК РФ прямо установлено, что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.
Итак, вторая проблема понятийного аппарата стран ЕЭАС проявляется, с одной стороны, в отсутствии определения интеллектуальных прав в гражданском законодательстве рассматриваемой группы стран (кроме ГК РФ), а с другой – в конкуренции научных и нормативных подходов к определению и соотношению категорий: «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права» и «право интеллектуальной собственности».
Конструкцию «исключительное право» в научной литературе тоже определяли различно. Некоторые авторы трактуют исключительные права как «имеющие экономическую ценность и способные свободно отчуждаться с учетом ограничений, установленных в интересах защиты личных прав создателей соответствующих объектов и публичных интересов общества. Данные права имеют территориальный и временный характер и допускают одновременную эксплуатацию объекта охраны неограниченным кругом лиц» [7].
Нет ясности и с определением категории «право интеллектуальной собственности». Одни исследователи (яркий представитель Иван Анатольевич Близнец) выступают за создание Кодекса интеллектуальной собственности России, считая, что регулирование такого комплексного института, как право интеллектуальной собственности, в рамках только гражданского права недостаточно: «…все более очевидным становится то обстоятельство, что в отрыве от норм других отраслей они не способны обеспечить надежную правовую основу для решения многообразных проблем повседневной практики» [1].
Другие авторы (В.С. Васильев, Р.А. Мерзликина, С.В. Трофимов) предлагают определять право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права, разделяя его на четыре правовых института: авторское право и смежные права; патентное право; средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг); нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности [2].
Профессор И.А. Зенин, подчеркивая значение права интеллектуальной собственности как суперинститута российского гражданского права, раскрывает его содержание в четырех взаимосвязанных аспектах: «1) как совокупность правовых норм; 2) как учебной дисциплины; 3) как науки (доктрины) правоведения и 4) как сферы осуществления и защиты интеллектуальных и связанных с ними прав». Право интеллектуальной собственности И.А. Зенин трактует как совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих отношения: 1) по охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей; 2) по установлению режима их использования; 3) по наделению создателей результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и других субъектов имущественными (исключительными) и неимущественными правами, иными правами; 4) по осуществлению и защите данных прав [4].
Предварительные итоги анализа базовых правовых категорий «интеллектуальная собственность», «право интеллектуальной собственности» и «исключительное право» позволяют представить суперинститут права интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС в виде концептуальной схемы, состоящей из пяти групп интеллектуальных прав: авторские права; права, смежные с авторскими; патентные права; права на средства индивидуализации; иные права. Кроме смежных и иных прав все прочие интеллектуальные права имеют признаки «исключительности».
Список литературы Проблемы правовой регламентации категорий "интеллектуальная собственность", "право интеллектуальной собственности" и "исключительное авторское право" в странах Евразийского экономического союза
- Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование: автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 2003.
- Васильев В.В. Система подотрасли права интеллектуальной собственности // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2012. № 6. С. 96-98.
- Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ // Законодательство и экономика. 2002. № 5. С. 11-24.
- Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М.: Статут, 2015. С. 10.
- Канторович А.Я. Собственность художественная и собственность художественно-промышленная // Право. 1909. № 13. С. 806-815.
- Карцхия А.А. Права интеллектуальной собственности и концепция общественного достояния // Мониторинг правоприменения. 2013. № 3. С. 8-23.
- Калягин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): учеб. для вузов. М.: НОРМА, 2000. С. 11.
- Миллер П.И. Фотографическая собственность. СПб.: Тип. А. Суворина, ценз., 1883.
- Миллер П. Музыкальная собственность // Журнал гражданского и уголовного права: Январь. Издание С.-Петербургского Юридического Общества. СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1886. Кн. 1. С. 37-76.