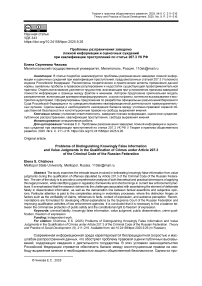Проблемы разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений при квалификации преступлений по статье 207.3 УК РФ
Автор: Чижова Е.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье подробно анализируются проблемы разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений при квалификации преступлений, предусмотренных статьей 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения данной нормы, выявлены пробелы в правовом регулировании и недостатки существующей правоприменительной практики. Отдельное внимание уделяется трудностям, возникающим при установлении признака заведомой ложности информации и границы между фактом и мнением. Автором предложена оригинальная модель разграничения, включающая критерии верифицируемости, ссылок на факты, контекста высказывания и восприятия аудиторией. Сформулированы предложения по разработке официальных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и по совершенствованию квалификационной деятельности правоохранительных органов. Сделан вывод о необходимости нахождения баланса между уголовно-правовой охраной общественной безопасности и конституционным правом на свободу выражения мнения.
Уголовная ответственность, заведомо ложная информация, оценочное суждение, публичное распространение, квалификация преступления, свобода выражения мнения
Короткий адрес: https://sciup.org/149149193
IDR: 149149193 | УДК: 343 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.26
Текст научной статьи Проблемы разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений при квалификации преступлений по статье 207.3 УК РФ
явлений такой законодательной политики стало включение в Уголовный кодекс Российской Фе-дерации1 (далее – УК РФ) статьи 207.3, предусматривающей уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами своих полномочий, оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Несмотря на сравнительно недавнее введение, норма статьи 207.3 УК РФ уже породила значительное количество правоприменительных вопросов. Одним из ключевых и пока не получивших однозначного разрешения в научной и судебной практике является вопрос разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений. Поскольку уголовный закон санкционирует лишь распространение ложных фактов, но не мнений, критически важно определить критерии, позволяющие провести границу между фактологическим утверждением и оценкой. Ошибочная квалификация оценочного суждения как заведомо ложной информации способна повлечь нарушение фундаментальных прав личности, в том числе права на свободу выражения мнения, гарантированного статьей 29 Конституции Российской Федерации2.
Актуальность выбранной темы обусловлена не только отсутствием официальных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации деяний, предусмотренных статьей 207.3 УК РФ, но и высокой степенью неопределенности понятия «заведомо ложная информация» в правоприменительной практике. Существенную сложность представляет ситуация, когда высказывание содержит элементы как фактов, так и оценок, либо фактическая составляющая облечена в оценочную форму. В таких случаях граница между информацией и мнением размыта, что ставит под угрозу правомерность уголовного преследования.
Целью статьи является формирование критериев, позволяющих разграничивать заведомо ложную информацию и оценочные суждения в контексте квалификации преступлений, предусмотренных статьей 207.3 УК РФ.
Научная новизна заключается в разработке авторской модели разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений, учитывающей как российский правовой контекст, так и международные стандарты свободы выражения мнений.
Авторский вклад состоит в обосновании новых критериев для квалификации высказываний, сочетающих элементы факта и мнения, с целью минимизации правовой неопределенности и предотвращения необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
Вопросы уголовно-правовой охраны информации, распространяемой в публичной сфере, имеют давнюю историю в отечественном праве. Еще дореволюционное законодательство содержало нормы, направленные на защиту интересов государства и общества от дезинформации, способной вызвать панику, недоверие к власти или иные социальные потрясения. В советский период уголовно-правовое регулирование получило развитие через нормы, предусматривающие ответственность за клевету, антисоветскую агитацию и пропаганду.
В научно-правовой литературе проблема разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений получила широкое освещение, однако остается дискуссионной. Исследователи указывают на отсутствие единого подхода к определению понятия «заведомо ложная информация» в контексте уголовно-правовой ответственности. Так, одни авторы предлагают опираться на критерий верифицируемости, предполагающий возможность объективной проверки утверждения на соответствие действительности (Бугера и др., 2022), другие подчеркивают роль официальной позиции государства как эталона истины (Кашин, Бычков, 2022). Отмечается также необходимость учета контекста высказывания, жанровых и коммуникативных особенностей, а также восприятия информации аудиторией (Козаев, Табакова, 2022). Несмотря на разнообразие подходов, в научной дискуссии преобладает мнение о недостаточной определенности законодательной конструкции статьи 207.3 УК РФ, что затрудняет ее однозначное толкование и применение.
Современное российское законодательство продолжило тенденцию охраны публичного дискурса, придавая особое значение достоверности распространяемых сведений. Принципиально новый этап регулирования наступил в 2022 г., когда в УК РФ была включена статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации». Анализ законодательной конструкции этой статьи показывает, что ее диспозиция построена по описательному типу: конкретизируются элементы объективной стороны состава преступления, такие как способ его совершения (публичное распространение). При этом предмет преступного посягательства – заведомо ложная информация о деятельности Вооруженных Сил РФ и иных субъектов – относится к характеристике объекта преступления, поскольку именно через предмет конкретизируется направленность посягательства. При этом закон не содержит нормативного определения понятия «заведомо ложная информация».
Если статья 128.1 УК РФ защищает индивидуальные нематериальные блага личности, такие как честь, достоинство, доброе имя, то статья 207.3 УК РФ ориентирована на охрану общественных интересов ‒ прежде всего общественной безопасности, информационной стабильности и доверия общества к действиям государства, его Вооруженных Сил и иных уполномоченных органов. Диспозиция статьи 207.3 УК РФ не содержит указания на необходимость того, чтобы распространяемая информация носила дискредитирующий, порочащий либо уничижительный характер. Для наступления уголовной ответственности по этой статье достаточно одного только факта несоответствия информации действительности, при условии, что лицо осознает ее ложность и, несмотря на это, все равно публично распространяет такие сведения. Иными словами, уголовно наказуемым признается сам факт введения общества в заблуждение относительно определенных аспектов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, органов государственной власти или иных структур, независимо от того, носит ли эта информация негативную оценочную окраску или нет.
Конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ, является заведомость ложности распространяемой информации. Данный признак относится к характеристике субъективной стороны и предполагает наличие у лица достоверного знания о несоответствии распространяемых сведений действительности и осознание им этого обстоятельства на момент распространения. Для правильной квалификации деяния требуется установление совокупности объективных и субъективных признаков: фактической ложности сведений и осознания субъектом этого обстоятельства на момент их распространения. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов (например, добросовестное заблуждение относительно истинности сведений) исключает уголовную ответственность по статье 207.3 УК РФ.
Особое место статья 207.3 УК РФ занимает в системе норм, направленных на борьбу с так называемыми фейками. Она соседствует с другими составами, введенными ранее для аналогичных целей, – статьями 207, 207.1 и 207.2 УК РФ, предусматривающими ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан, и о мерах по обеспечению безопасности населения. Эти нормы образуют группу преступлений против общественной безопасности, отражая усилия государства по противодействию дезинформации в условиях кризисных ситуаций, включая эпидемии, чрезвычайные происшествия и вооруженные конфликты (Абдулатипов, 2022: 122).
На доктринальном уровне обращается внимание на необходимость разграничения состава преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ, и состава, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ. Несмотря на схожесть объектов и сходство предмета посягательства, диспозиции этих статей различаются: если статья 280.3 УК РФ криминализует действия, направленные на подрыв авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, то статья 207.3 УК РФ – именно распространение заведомо ложной информации, независимо от ее дискредитирующего эффекта.
Вместе с тем в научной литературе подчеркивается неопределенность критериев, позволяющих отграничить оценочные суждения от заведомо ложной информации. Диспозиция статьи 207.3 УК РФ прямо не решает вопрос о допустимости уголовного преследования за распространение мнений, гипотез, предположений, выраженных в оценочной форме. Отсутствие нормативного разграничения усиливает риск расширительного толкования, что, в свою очередь, может привести к необоснованному ограничению свободы выражения мнения (Шеншин, Семенова, 2022: 208).
Одним из наиболее сложных вопросов, возникающих при квалификации преступлений, предусмотренных статьей 207.3 УК РФ, является разграничение заведомо ложной информации и оценочных суждений. Проблема приобретает особую актуальность в условиях отсутствия в законе легального определения как самой «заведомо ложной информации», так и «оценочного суждения», формируется риск произвольного расширительного толкования и нарушения принципа правовой определенности.
В научной литературе вопрос разграничения этих понятий подвергается глубокому анализу. Так, Л.В. Дулькина отмечает, что признак заведомой ложности указывает на наличие у субъекта достоверного знания о несоответствии сведений действительности, тогда как недостоверность может выражаться в недостаточной проверке фактов или в допущении возможности их ложности. Автор подчеркивает необходимость двухступенчатой проверки: сначала объективной истины (наличия или отсутствия фактических обстоятельств), затем – субъективного восприятия распространителя информации (Дулькина, 2022: 22). В этой связи понятие «заведомо ложная информация» в контексте статьи 207.3 УК РФ следует соотносить исключительно с утверждениями, подлежащими верификации (проверке на соответствие действительности) (Кибальник, 2022).
А.И. Родионов, анализируя правоприменительную практику по статье 207.3 УК РФ, обращает внимание на значимость официальной позиции государственных органов как эталона для определения ложности сведений. По его мнению, наличие опубликованной официальной информации является необходимым условием для вменения заведомо ложной информации, поскольку без этого затруднительно установить несоответствие утверждений действительности (Родионов, 2022: 35). Показательным является приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл по делу № 1-418/2023, в котором суд исключил из предъявленного А.В. Филиппову обвинения утверждения о направлении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Украины с целью захвата ее территории, ликвидации независимости и изменения государственного строя. Основанием для этого послужило то, что данные сведения, признанные стороной обвинения несоответствующими официальной позиции Министерства обороны РФ, не нашли объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства1.
Вместе с тем правоприменение демонстрирует разную интерпретацию субъективной стороны преступления. Как указывает А.В. Бриллиантов, для установления признака заведомой ложности требуется наличие прямого умысла, включающего достоверное знание лица о том, что распространяемые им сведения не соответствуют действительности (Бриллиантов, 2023: 25). При этом добросовестное заблуждение, неосторожность, недостаточная проверка источников исключают наличие умысла, необходимого для квалификации деяния по статье 207.3 УК РФ.
Особую сложность вызывает квалификация высказываний, сочетающих элементы фактов и оценочных суждений. Например, утверждение: «Военные преступления совершаются ежедневно» может рассматриваться как оценка, поскольку содержит эмоционально-нравственную характеристику, хотя и отсылает к возможным фактам. В таком случае вопрос о квалификации требует анализа контекста высказывания, интонации, адресата, платформы распространения.
А.М. Шамаев, исследуя понятие общественно значимой информации, справедливо отмечает, что предметом преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ, является такая информация, которая объективно способна оказывать влияние на общественное мнение и безопасность, то есть фактические данные о событиях, затрагивающих неопределенный круг лиц (Ша-маев, 2022: 99). Следовательно, высказывания, являющиеся личными оценками, политическими взглядами, философскими размышлениями, не могут образовать состав преступления по статье 207.3 УК РФ, если они не претендуют на утверждение фактов.
Сложность разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений также связана с особенностями современного медиа-дискурса, где традиционные границы между фактом и мнением размыты. Использование гипербол, иронии, сатиры, мемов затрудняет однозначное толкование высказываний. В судебной практике это приводит к необходимости экспертных оценок (лингвистических, психолого-филологических), чтобы установить, является ли спорное высказывание утверждением о факте или мнением.
Указанные проблемы свидетельствуют о необходимости выработки четких критериев разграничения заведомо ложной информации и оценочных суждений. Такими критериями могут быть:
-
1. Критерий верифицируемости – утверждение должно быть проверяемо на соответствие действительности (например, «В городе N произошло событие»).
-
2. Критерий ссылок на факты – наличие ссылки на конкретные события, лица, даты, цифры указывает на фактологическую природу высказывания.
-
3. Критерий контекста – анализ места и способа высказывания (юмористическая программа, художественное произведение, новостной репортаж).
-
4. Критерий восприятия аудитории – восприятие информации аудиторией как факта или как мнения, с учетом характера платформы (например, блог, паблик, официальный сайт).
Представляется, что применение этих критериев позволит минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности за выражение мнения и обеспечит соблюдение принципа правовой определенности.
Ошибка в установлении характера высказывания способна не только привести к неверной квалификации, но и нарушить конституционные гарантии свободы выражения мнения. Согласно статье 207.3 УК РФ, уголовная ответственность наступает за публичное распространение заведомо ложной информации, при этом уголовный закон требует установления признака заведомо-сти, который предполагает наличие у субъекта достоверного знания о несоответствии распространяемых сведений действительности.
Особое внимание вызывает ситуация, когда высказывание содержит элементы факта и оценочного суждения, выраженные в неразрывной форме. В таких случаях правоохранительным органам необходимо установить, носит ли спорное высказывание характер утверждения о факте (верифицируемого) или является мнением, гипотезой, предположением, которые не подлежат проверке на истинность или ложность. Разграничение заведомо ложной информации и оценочных суждений имеет непосредственное влияние на субъективную сторону преступления. Если высказывание носит характер оценки, то даже при его фактической неточности субъект не может осознавать ложность информации в уголовно-правовом смысле. Добросовестное заблуждение, неосторожность, недостаточная проверка источников исключают наличие прямого умысла, необходимого для квалификации преступления по статье 207.3 УК РФ.
Особую сложность представляет квалификация высказываний журналистов, блогеров, общественных деятелей, осуществляющих интерпретацию событий, особенно в условиях отсутствия оперативной официальной информации. Поскольку профессиональная деятельность этих лиц предполагает выражение субъективной оценки, любое уголовное преследование за такие высказывания должно подвергаться строгой проверке на предмет нарушения границы между мнением и утверждением факта. Иначе существует риск установления эффекта «охлаждающего воздействия» (chilling effect), когда лица будут воздерживаться от высказываний, опасаясь уголовного преследования, что негативно скажется на реализации принципа свободы выражения мнения.
Еще один важный аспект – необходимость различения составов 207.3 и 280.3 УК РФ, на что указывают В.Г. Степанов-Егиянц и З.И. Абазехова (2022: 379). Несмотря на сходство объектов (общественная безопасность, авторитет Вооруженных Сил РФ), диспозиции статей различаются по характеру деяния: статья 207.3 УК РФ преследует распространение заведомо ложной информации, а статья 280.3 УК РФ – дискредитацию, то есть подрыв доверия без обязательного элемента ложности. Это различие существенно для правильной квалификации деяния, поскольку дискредитирующие сведения, даже если они вызывают негативное восприятие, могут быть достоверными, а потому их распространение не образует состава преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ.
Таким образом, разграничение заведомо ложной информации и оценочных суждений имеет принципиальное значение для квалификации преступления по статье 207.3 УК РФ, затрагивая как объективную, так и субъективную стороны состава преступления. Ошибка в этом разграничении чревата нарушением конституционных прав личности, международных обязательств Российской Федерации, а также принципа законности уголовного права. Для устранения правовой неопределенности представляется целесообразным разработать официальные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, в которых должны быть закреплены подходы к разграничению заведомо ложной информации и оценочных суждений, а также порядок установления признака заведомости в составе преступления. Это обеспечит соблюдение принципа правовой определенности, единообразие правоприменительной практики и надежную защиту прав и свобод личности.