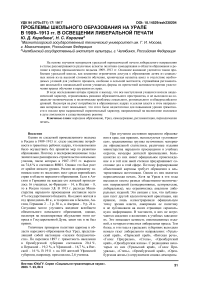Проблемы школьного образования на Урале в 1909-1913 гг. в освещении либеральной печати
Автор: Коробков Юрий Дмитриевич, Королев Никита Сергеевич
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.23, 2023 года.
Бесплатный доступ
На основе изучения материалов уральской периодической печати либерального направления в статье рассматриваются различные аспекты политики самодержавия в области образования в регионе в период промышленного подъема 1909-1913 гг. Основное внимание уделяется таким проблемам уральской школы, как косвенное ограничение доступа к образованию детям из социальных низов из-за высокой стоимости обучения, хроническая нехватка школ и отсутствие необходимых условий для учебного процесса, особенно в сельской местности, строжайшая регламентация школьной и внешкольной жизни учащихся, формы их протестной активности против ужесточения правил обучения и нарушения их прав. В ходе исследования авторы пришли к выводу, что все выступления учащихся носили академический характер, ограничиваясь рамками образовательного пространства, и не выходили на социально-экономические и политические проблемы локального, регионального и общероссийского уровней. Несмотря на рост потребности в образованных кадрах и усилия власти в этом направлении материалы газет показывают, что этого было недостаточно для повышения уровня грамотности и носило ярко выраженный охранительный характер, направленный на воспитание молодежи в духе лояльности к существующему режиму.
Народное образование, урал, самодержавие, регламентация, периодическая печать
Короткий адрес: https://sciup.org/147240373
IDR: 147240373 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh230204
Текст научной статьи Проблемы школьного образования на Урале в 1909-1913 гг. в освещении либеральной печати
Одним из следствий промышленного подъема в России в 1909–1913 гг. стало увеличение потребности в грамотных рабочих кадрах, что невозможно было осуществить без принятия мер по развитию образования. Поэтому в послереволюционные годы значительно расширилось строительство начальных училищ, число которых в 1907–1915 гг. выросло на 74,6 % и составило 80801. Однако это был рост от крайне низкого уровня. Россия по-прежнему занимала одно из последних мест среди европейских стран в области народного образования. Если в Англии и Германии на каждые сто жителей приходилось 16 учащихся, во Франции - 14, в Италии - 8, то в России только 3,8. В 1913 г. расходы Министерства народного просвещения составили всего 4 % государственного бюджета. На одного жителя в год приходилось 80 к., в то время как в Бельгии, Англии, Германии 2 - 3 р. 50 к., в Америке - 9 р. 24 к. Ситуацию могло улучшить введение всеобщего обязательного начального образования, однако, несмотря на неоднократные обсуждения этого вопроса в Государственной Думе, закон так и не был принят.
Типичным примером политики царизма в области народного образования был Урал, представлявший собой настоящие «залежи безграмотности». По переписи 1897 г. грамотность населения в Оренбургской губернии составляла 20,4 %, в Пермской - 19,2 %, в Уфимской - 16,7 %, в Вятской - 16 %. В 1911 г. на 100 жителей Уфимской губернии, например, приходилось 2,6 ученика.
При изучении состояния народного образования в крае, как правило, используются «устоявшиеся», традиционные группы источников: материалы официальной статистики, различные издания министерства народного просвещения и учебных округов, мемуары деятелей просвещения. Большинство из них имеет официальное происхождение и в той или иной степени приукрашивает состояние дел в этой сфере. Поэтому формирование объективной картины требует обращения к альтернативным источникам. Одним из них является периодическая печать. Хотя на Урале в эти годы выходили газеты разных общественно-политических направлений (консервативные, центристские, либеральные), мы ограничились анализом либеральных изданий. Это связано с тем, что публикации газет другой идеологической ориентации, как правило, лишь иллюстрировали официальную точку зрения власти, лакировали ее политику и не публиковали на своих страницах «крамольную» информацию. В частности, в них не встречаются сведения о волнениях в учебных заведениях. Это повышает ценность оппозиционных изданий, к которым относится либеральная пресса. Тем более, в эти годы в уральских губерниях выходило немало газет либерального направления: «Уральский край», «Пермский край», «Вятская речь», «Голос Приуралья», «Степь», «Оренбургский край», «Оренбургская жизнь». С редакциями некоторых из них (Уральский край», «Голос Приуралья», «Степь», «Оренбургский край», «Оренбургская жизнь») сотрудничали социал-демократы.
Их публикации, многие из которых носили критический характер, дают богатый материал для изучения «школьной» политики правительства, вскрывают реальное состояние дел и обнажают наиболее острые проблемы в сфере народного образования.
Актуальность проблемы обусловлена также особенностями историографической ситуации, поскольку либеральная периодическая печать в качестве основного источника изучения народного образования на Урале не рассматривалась.
Обзор литературы
Противоречивая картина динамики развития образования и реального уровня грамотности населения страны привела к различным оценкам политики власти в этой сфере.
Советская историография народного образования на Урале в начале XX в. в целом основывалась на ленинской концепции дореволюционной школы как «школы муштры и зубрежки», в соответствии с которой ее развитие происходило благодаря не столько политике власти, сколько усилиям передовых российских педагогов. Следствием абсолютизации классового подхода стали односторонне критические выводы историков относительно уровня развития народного образования и его сословного характера, которые должны были подтвердить ленинские оценки. Эта тенденция была характерна для работ как союзного, так и регионального уровней, в том числе и для уральской историографии [1-3].
В постсоветский период тематика исследований по истории народного образования расширяется. В поле исследовательских интересов попадают такие вопросы, как роль земств в развитии школы [4], благотворительность в сфере образования [5], повседневная жизнь школ [6] и др. Для работ современных историков характерно стремление к объективному анализу состояния начальной и средней школы, к выявлению слабых и сильных сторон образования в дореволюционной России [7], в том числе для использования его позитивных наработок в современных условиях.
Всплеск интереса к теме истории образования в постсоветский период наблюдается и на Урале. В рамках общих тенденций по антропологизации и локализации исторического знания появляются публикации, посвященные конкретным учебным заведениям, их повседневной жизни [8, 9], наиболее известным ученикам и учителям [10]. Отличительной чертой современной историографии является появление крупных обобщающих работ, монографий, учебных пособий, в которых исследуются различные аспекты развития школьного образования в регионе [11]. При этом исследователи чаще ориентируются на официальные документы (материалы официальной статистики, различные издания министерства народного просвещения и учебных округов, других государственных учре- ждений). Альтернативным источникам, к которым относится периодическая печать, уделяется значительно меньше внимания. Поэтому данная статья является попыткой в какой-то степени восполнить этот пробел.
Методы исследования
Методологический инструментарий статьи обусловлен нахождением данной проблематики в исследовательском пространстве таких направлений исторической науки, как социальная история и история повседневности. Для объективного изучения проблемы мы используем комплексный подход, сочетающий проведение микроаналитических срезов в контексте развития социальных макропроцессов.
Для проблематики данного исследования наибольшую ценность представляют историкосравнительный метод, дающий возможность рассмотреть изменения в сравнительном контексте, историко-типологический метод, позволяющий выявить основные факторы изменений государственной политики в образовании. Ее рассмотрение в более широком контексте социальной трансформации дореволюционной России с учетом разнообразия соответствующих изменений предопределило важность и историко-системного метода.
Результаты и дискуссия
Среди вопросов в области образования, которые чаще всего поднимались на страницах либеральных газет, следует выделить политику косвенного ограничения доступа в школы детей трудящихся. Одним из ее проявлений являлась высокая стоимость обучения, которая становилась труднопреодолимым барьером на пути к знаниям для многих детей. Уже на начальном этапе обучения многие из них были вынуждены оставлять школу из-за неспособности родителей внести плату за обучение. В Юговском заводе, например, в 4 начальные училища поступило в 1911 г. 180 мальчиков и 130 девочек, оканчивали же курс 40 мальчиков и 23 девочки [12]. В Курганской ремесленной школе из 33 учеников за зиму 1911 г. выбыло 17 учеников. Из-за высокой платы за обучение в массовом порядке бросали учебу учащиеся Ка-мышловского железнодорожного училища. В течение 1912–1913 гг. вследствие непосещения учащимися школ из-за низкого материального уровня в Ирбитском уезде число начальных училищ сократилось на 14 %, а двуклассных -на 9,5 %. [13].
Значительное место среди газетных материалов занимало освещение такой черты российского образования, как хроническая нехватка школ. Так, на все население Каслинского завода (более 20 тыс. человек) существовало лишь три женские начальные школы, в Чусовском заводе была только одна смешанная одноклассная школа [14]. Из-за отсутствия школьных помещений в Кушвин-ском заводе в 1910 г. не смогли попасть в школу
200 детей. По той же причине в Челябинске в 1910–1911 учебном году 1500 детей остались за порогом школы [15].
Значительно хуже было положение в сельской местности. Типичным примером является Челябинский уезд Оренбургской губернии. Как отмечали корреспонденты, сотни детей остались «за бортом шкоды» в Ивановской, Екатерининской, других волостях уезда из-за острой нехватки школьных зданий. Существовавшие же школы часто не были приспособлены к занятиям, ютились в холодных, сырых и темных помещениях, кочевали из одной избы в другую. В целом по уезду в 1910 г. половина школ не имела специальных зданий, во многих из них ученики буквально замерзали, всю зиму не снимали верхнего платья и обуви [16]. Следствием этого была высокая заболеваемость учащихся. Как отмечал репортер, эти явления среди учащихся стали принимать угрожающий характер.
В 1911 г. Пермская губерния стояла на втором месте в России по размерам ассигнований на народное образование. Между тем, ситуация здесь практически не отличалась от положения в других уральских губерниях. На 20 деревень Крохалевского общества Купросской волости Соликамского уезда приходилась только одна церковноприходская школа. В деревне Подволошной, которая находилась в 7 верстах от школы, из 25 детей в 1911 г. обучались лишь семеро. Аналогичная ситуация складывалась в Верхнемулинской волости Пермского уезда, где одна церковноприходская школа приходилась на 10 деревень [17], и во многих других районах губернии. В 1912 г. число детей, оставшихся за порогом школы в Верхотурском уезде, составило 9520. По мнению автора статьи, «эти залежи безграмотности» можно было ликвидировать только в 1921 г. при условии ввода ежегодно 30 новых школ [18]. Такое положение было характерно для всего Урала.
Накануне Первой мировой войны оппозиционные эксперты отмечали, что около четырех пятых детей и подростков в России лишены образования. Материалы уральских газет полностью подтверждают данный вывод и свидетельствуют о том, что принимавшиеся самодержавием меры по решению этой проблемы были явно недостаточны.
Последовавшее после завершения первой русской революции усиление охранительной политики власти практически во всех сферах жизни затронуло и образовательные учреждения. По-своему извлекая уроки из опыта революции, самодержавие приложило немало усилий по вытравливанию из учебных заведений революционных настроений, пресекало малейшее проявление инакомыслия. Оно прилагало максимум усилий для изоляции учащихся от жизни, отвлечения их от общественной деятельности, ограждения от любого постороннего влияния. Для этого пересматривались учебные планы, увеличивалась учебная нагрузка, объем домашних заданий, усиливался контроль за поведением учеников в школе и дома. В учебных заведениях вводилась строгая регламентация всех сторон школьной жизни. Особенно отчетливо это проявилось в практике внешкольного надзора. При каждой средней школе учреждался штат инспекторов и инспектрис, которые посещали квартиры учащихся, следили за их поведением вне школы. В воскресные и праздничные дни ученики были обязаны посещать особые школьные чтения и собеседования, устанавливался строгий контроль за чтением книг.
Широкую панораму «атмосферы сыска и доносов», настойчиво внедрявшейся в уральской школе, дает местная либеральная печать. В Вятской духовной семинарии, например, воспитанникам было запрещено посещать лекции по естественным наукам в техническом училище. В Слободской женской гимназии Вятской губернии ученицы не могли без разрешения начальства ходить на концерты и спектакли, посещать общество трезвости [19].
Такая же практика существовала в средних школах Оренбургского учебного округа. В Челябинской женской гимназии рассматривался вопрос об исключении учениц, посетивших спектакль «Братья Карамазовы» и оставшихся после его окончания на танцы [20]. Был установлен надзор за ученицами 1-й женской гимназии Оренбурга, не посещавшими церковь. В деятельности педагогических коллективов Челябинской женской гимназии, Троицкой мужской и женской гимназий прочно утвердился такой «метод» воспитания, как обыски учащихся. Венцом подобной практики можно считать предложение педагогов Пермской женской семинарии перевести ее в Ирбит, так как Пермь, по их мнению, «…шумный и слишком оживленный город» [21].
Красноречивую характеристику школьной действительности дают сами учащиеся. «Когда мы вспоминаем наше пребывание в училище, – писали ученики Шадринского реального училища, – мы болезненно морщимся, мы стараемся стряхнуть с себя этот кошмар. За совместное чтение Писарева вызывали в кабинет директора, где уверяли, что за это надо всем привесить жернова и бросить в Ис-еть. Под угрозой исключения из школы заставляли менять значки на фуражках, за недостающую пуговицу на куртке сбавляли баллы. Позднее 7 часов вечера запрещалось бывать на улице» [22, с. 14–15].
Насаждение в школе казарменного режима вызывало различную реакцию учащихся. Менее устойчивая часть из них стала искать выход из ситуации в самоубийствах, которые приняли в эти годы массовый характер и, как отмечал репортер Уфимского вестника, стали «бытовым явлением».
Многие учащиеся выражали недовольство существовавшими порядками, участвуя в тех или иных формах протеста. Газеты дают сведения о такой из них, как бойкот учащимися преподавателей, которые придерживались взглядов правых партий. Учитывая, что эти партии были опорой царизма, в советской историографии утвердилось мнение, что бойкот таких преподавателей выражал отношение учеников не только к монархическим партиям, но и к самодержавному строю в целом. Исходя из этого, он рассматривался как специфическая форма стихийного политического протеста против режима третьеиюньской монархии [1, с. 119], что, на наш взгляд, «грешит» очевидной идеологизацией.
Много внимания пресса уделяла освещению волнений в духовных семинариях. Эго связано с тем, что подобные заведения отличались особенно строгим режимом, жесточайшей регламентацией каждого шага воспитанников и разработанной системой наказаний. В Вятской духовной семинарии, например, правила предусматривали лишение отпуска в город, ежедневные богослужения, строгий контроль над чтением книг и даже ссылку семинаристов за дурное поведение в мужские обители со строгими Уставами. Оренбургская духовная семинария сравнивалась прессой с «исправительной колонией для малолетних преступников». Не случайно, в их стенах, в Вятке в 1913 и 1914 гг., в Оренбурге в 1911 и 1913 гг., произошли крупные волнения семинаристов, которые, по свидетельству прессы, носили «…особенно бурный и подчас погромный характер» [23].
Резкой критике подвергались порядки в Оренбургской и Пермской мужских гимназиях, послужившие поводом для волнений в марте и октябре 1911 г. Рассказывая о волнениях учащихся Троицкой мужской гимназии в марте 1910 – феврале 1911 г., газеты отмечали, что их причиной явилась система шпионажа и доносов, внедрявшаяся педагогическим персоналом [24].
Охранительная политика самодержавия в области народного образования ярко проявлялась в национальных регионах. После окончания первой русской революции значительно усилилась религиозная направленность преподавания в татарских и башкирских школах, сводился до минимума объем изучения светских наук. Сохранялось полное бесправие учащихся. Так, согласно Правилам для шакирдов 1913 г., их наказывали за отсутствие должного рвения в исполнении религиозных обрядов, за нарушение формы одежды, посещение театров, вечеров, за игру на музыкальных инструментах, в шахматы, шашки, за пение песен. Все это вызывало недовольство учеников.
На Урале особой активностью в годы промышленного подъема отличались учащиеся национальных школ Оренбургской и Уфимской губерний. Особое внимание пресса уделяла положению в Оренбургском медресе Хусайния, в стенах которого постоянно происходили волнения. Газеты писали о забастовке старшеклассников в феврале 1910 г. Широкий резонанс на Урале получили волнения в медресе в марте 1913 г. В результате забастовки, в которой участвовало 123 ученика, 52 были уволены. Однако причины, породившие недовольство, не были устранены, что привело к новым выступлениям в 1914 г. Всего же за время волнений весной 1913 г. стены медресе Хусайния, медресе Галия в Уфе и медресе в Кизливе Казанской губернии покинуло около 200 учащихся [25]. Кроме указанных заведений, увольнения шакир-дов на почве недовольства системой преподавания в апреле–мае 1913 г. произошли в Усмановском медресе Уфимской губернии, в Кизлярском Оренбургской губернии.
В газетах излагались требования учащихся. Самыми распространенными из них были смягчение внешкольного надзора, улучшение преподавания, увольнение некомпетентных учителей, посещение театров, выписка периодических журналов самими учащимися, предоставление библиотек учащимся для постоянного пользования, расширение объема преподавания светских наук для национальных школ и семинарий [26]. На наш взгляд, они являются дополнительным аргументом против сторонников «голодной» теории, считающих главной причиной волнений учащихся их тяжелое материальное положение. Ведь даже бедняки-семинаристы не затрагивали в своих требованиях бытовых вопросов.
Выводы
Проведенный анализ показывает, что основное внимание на страницах либеральных газет уделялось наиболее острым проблемам уральской школы, таким как косвенное ограничение доступа к образованию детям из социальных низов из-за высокой стоимости обучения, хроническая нехватка школ и отсутствие необходимых условий для учебного процесса, строжайшая регламентация школьной и внешкольной жизни учащихся, формы их протестной активности против ужесточения правил обучения и нарушения их прав.
Анализ причин волнений и требований учащихся показывает, что все выступления носили академический характер. Их основными формами были сходки, забастовки, бунты. Реже всего встречаются упоминания о забастовках. При этом фактически только события в медресе Хусайния получили достаточное освещение в печати. Объясняется это как снижением уровня выступлений учащейся молодежи (в исследуемый период отмечено 6 забастовок, тогда как в 1907–1910 г. их было 21), так и «усердием» цензуры.
Необходимо также отметить, что сведения о волнениях в уральской школе не всегда попадали в рапорты чинов Департамента полиции и отчеты Министерства народного просвещения. Поэто- му газетные материалы порой являются единственным свидетельством об этих событиях. Это повышает их ценность, но одновременно требует тщательного, взвешенного подхода при их анализе и сопоставления с другими источниками.
В целом уральские газеты либерального направления дают богатый и разнообразный материал для изучения политики самодержавия в области народного образования, поднимают острые проблемы начальной и средней школы, что дает возможность получить более объективную картину реального состояния дел в этой сфере. Его критический анализ и сопоставление с другими документами позволяют расширить источниковую базу исследований по истории уральской школы, глубже раскрыть тенденции ее развития, действия власти по повышению уровня грамотности в стране и воспитанию молодежи в верноподданническом духе.
Список литературы Проблемы школьного образования на Урале в 1909-1913 гг. в освещении либеральной печати
- Калугина, Т. В. Народное образование в Екатеринбурге в конце XIX – начале ХХ в. / Т. В. Калугина, Л. В. Ольховая // Из истории духовной культуры дореволюционного Урала. – Свердловск, 1979. – С. 112–123.
- Народное образование на Урале в XVIII – начале ХХ в.: сборник научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1990. – 146 с.
- Нечаев, Н. В. Горнозаводские школы Урала. (К истории профессионально-технического образования в России) / Н. В. Нечаев. – М.: Трудрезервиздат, 1956. – 207 с.
- Абрамов, В. Ф. Земство, народное образование и просвещение / В. Ф. Абрамов // Вопросы истории. – 1998. – № 8. – С. 44–53.
- Кондратьева, Г. В. Частная благотворительность в сфере просвещения (XIX в.) / Г. В. Кондратьева // Педагогика. – 2002. – № 9. – С. 83–87.
- Синова, И. В. Жестокое обращение с детьми в России на рубеже XIX – ХХ вв. / И. В. Сино-ва // Педагогика. – 2004. – № 3. – С. 69–79.
- Флит, Н. В. Школа в России в конце XIX – начале ХХ вв. / Н. В. Флит. – Л.: Б.и., 1991. – 96 с.
- Вяткин, В. В. Трудный путь Пермской духовной семинарии / В. В. Вяткин // Страницы прошлого: избранные материалы краеведческих Смышляевских чтений в Перми. Вып. 4. – Пермь, 2003. – С. 38–49.
- Боже, В. С. Школьный мир дореволюционного Челябинска / В. С. Боже. – Челябинск, 2006. – Т. 1. – 152 с. ; Т. 2. – 368 с.
- Рушанин, В. Я. Мария Васильевна Каменская. Школьная мама / В. Я. Рушанин. – Челя-бинск: ЧГИК, 2019. – 283 с.
- Зотова, Л. М. Женское образование в Вятской губернии во 2 пол. XIX – начале ХХ в. / Л. М. Зотова. – Киров, 2003. – 243 с.
- Кузьмин, А. Убитое детство / А. Кузьмин // Пермский край. – 1912. – 17 января.
- Горин, В. Печальная статистика / В. Горин // Пермский край. – 1913. – 25 января.
- Заводчанин. Когда же будут перемены? / Заводчанин // Уральский край. – 1911. – 23 апреля.
- Петрова, Н. Наши тревоги / Н. Петрова // Голос Приуралья. – 1911. – 14 августа.
- Очевидец. Беда в доме / Очевидец // Уральская жизнь. – 1910. – 16 апреля.
- Неравнодушный. Как дойти до знаний? / Неравнодушный // Пермский край. – 1912. – 25 марта.
- Сидоров, К. Залежи безграмотности / К. Сидоров // Зауральский край. – 1913. – 23 января.
- Чернозуб, С. Долой культуру / С. Чернозуб // Вятская речь. – 1911. – 5 марта.
- Суркова, М. Странная история / М. Суркова // Голос Приуралья. – 1911. – 5 февраля.
- Платонова, Д. Хранители нравственности / Д. Платонова // Пермский край. – 1911. – 15 января.
- Под знаменем Октября. – Пермь: Звезда, 1927. – 173 с.
- Панова, И. Будни семинаристов / И. Панова // Оренбургский край. – 1913. – 8 октября.
- Тучков, П. Кого воспитываем? / П. Тучков // Оренбургский край. – 1911. – 28 октября.
- Уметбаев, З. Подальше от бога / З. Уметбаев // Вахт. – 1913. – 31 марта.
- Волкова, Е. Чего хотят дети? / Е. Волкова // Голос Приуралья. – 1911. – 9 декабря.