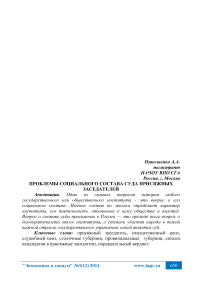Проблемы социального состава суда присяжных заседателей
Автор: Николаенко А.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-2 (12), 2014 года.
Бесплатный доступ
Один из главных вопросов истории любого государственного или общественного института - это вопрос о его социальном составе. Именно состав во многом определяет характер института, его деятельность, отношение к нему общества и властей. Вопрос о составе суда присяжных в России - это прежде всего вопрос о демократичности этого института, о степени участия народа в такой важной отрасли государственного управления, какой является суд.
Присяжный заседатель, имущественный ценз, служебный ценз, столичные губернии, провинциальные губернии, списки кандидатов в присяжные заседатели, оправдательный вердикт
Короткий адрес: https://sciup.org/140108593
IDR: 140108593
Текст научной статьи Проблемы социального состава суда присяжных заседателей
Рассмотрим состав присяжных в Российской империи в 19 веке. Согласно Судебной реформе 1864 года присяжным заседателем в России мог быть местный обыватель любого сословия при условии соблюдения трех основных требований: русское подданство, возраст от 25 до 70 лет и проживание не менее двух лет в том уезде, где проводилось избрание в присяжные.
Для определения круга людей, имевших право быть избранными в присяжные заседатели, в каждом уезде составлялись первоначальные, или общие, списки. В эти списки вносились почетные мировые судьи, гражданские чиновники не выше 5-го класса и все лица, занимавшие выборные общественные должности. К таким относились и крестьяне, избранные в сельские суды, исполнявшие должности сельских старост, волостных старшин, голов и другие должности по крестьянскому общественному управлению, созданному «Положениями 19 февраля 1861 г.».
Для всех остальных претендентов устанавливался имущественный ценз: присяжными заседателями могли назначаться лица, «владеющие землей в количестве не менее 100 десятин, или другим недвижимым имуществом ценою: в столицах не менее 2000 рублей, в губернских городах и градоначальствах - не менее 1000 рублей, а в прочих местах не менее 500 рублей, или же получающие жалование, или доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не менее 500, а в прочих местах не менее 200 рублей в год» [1, Ст. 84.3] Необходимо отметить, что имущественный ценз не был слишком высоким.
Списки составляли представители земств и городских дум, что усиливало значение органов местного общественного управления. Различное толкование закона о выборах присяжных заседателей часто приводило к противоположным выводам. В 1862 г. Н. П. Огарев, анализируя статьи «Основных положений преобразования судебной части в России», утверждал, что «в среде присяжных крестьян почти не будет» и что «большее число присяжных будет назначено из правительственных чиновников» [2, С.124]. Обозреватель журнала «Дело», основываясь на цифрах о составе населения страны, высказал предположение, что присяжные будут рекрутироваться главным образом из крестьянского сословия [3, С. 104].
Существование имущественного и «служебного» цензов, руководство дворян в комиссиях по составлению списков присяжных должны были исключить возможность широкого участия представителей простого народа в суде. Поэтому, с точки зрения формальной логики, вполне убедительным является утверждение о том, что крестьяне, составлявшие огромное большинство населения страны, фактически не допускались в суд в качестве присяжных. Но российская действительность скорректировала как предположения законодателей, так и априорное решение вопроса о составе присяжных заседателей.
Прежде всего нужно отметить прямо противоположную картину в составе присяжных столичных уездов и всех остальных. Например, в Санкт-Петербургском уезде дворян и купцов среди присяжных насчитывалось в 15 раз больше, чем крестьян. В остальных уездах этой губернии количество крестьян среди присяжных более чем в два раза превышало число дворян и купцов, вместе взятых. Примерно такая же пропорция наблюдается и в Московской губернии. По данным за 1882 г. крестьяне составляли 49,2% всех москвичей, а дворяне и чиновники, к которым принадлежала почти половина московских присяжных, — всего 7,4%.
Таким образом, присяжные заседатели столичных губерний в большинстве своем были представителями привилегированных сословий. Крестьяне составляли здесь менее третьей части присяжных, а в нестоличных уездах крестьян среди присяжных было больше половины. Такой очень низкий процент крестьян среди столичных «судей совести» можно объяснить отсутствием здесь лиц, занимавших выборные должности по крестьянскому общественному управлению. К тому же имущественный ценз в столицах в два с половиной раза превышал ценз, установленный для присяжных в остальных местах. Влияло и нежелание членов комиссии по составлению списков допускать в суд представителей «низшего» сословия, когда имелась возможность выбирать из «высших» слоев общества.
В обеих столицах проживало в общей сложности всего около 2% населения Европейской России [4, C.45]. Доля присяжных столичных губерний в сумме составляла примерно 1/20 часть всех присяжных заседателей страны [5].
Состав присяжных провинциальных губерний существенно отличался от столичных. Более половины провинциальных присяжных составляли крестьяне, а дворян, чиновников и купцов насчитывалось около четверти заседателей.
Как и в столичных губерниях, в составе жюри губернских уездов в провинции существует прямо противоположная картина по сравнению с остальными уездами, где почти две трети присяжных были крестьянами. Но в негубернских уездах насчитывалось почти в 6 раз больше присяжных, чем в уездах губернских городов. Это окончательно определило положение в целом по стране.
В 1873 г. крестьяне составляли среди очередных присяжных Владимирской губернии 73,7%, Нижегородской — 78,1 и Казанской — 72,2%. Через 10 лет доля крестьян несколько сократилась, но по-прежнему оставалась самой большой: 64,8% во Владимирской, 73,1% в Нижегородской и 70,6% в Казанской.
Составители Судебных уставов не могли не предвидеть, что в крестьянской по составу населения стране значительную часть присяжных будут составлять представители «низшего» сословия. Но вряд ли авторы судебной реформы предполагали, что крестьяне будут составлять абсолютное большинство среди присяжных.
Главной причиной этого, несомненно, была сама структура населения России, состоявшего почти на 90% из крестьян. Но русское крестьянство было далеко не однородной массой по своему составу, поэтому рассмотрим, какие из его слоев чаще всего представляли присяжные заседатели.
Закон представил выборы присяжных таким образом, чтобы в жюри попадали наиболее «благонадежные» и состоятельные крестьяне. Вспомним, что в списки присяжных вносились крестьяне, во-первых, удовлетворявшие условиям имущественного ценза и, во-вторых, занимавшие административные должности в крестьянском управлении. При этом от крестьян, занимавших должности, не требовалось владения определенным размером имущества, земли или дохода.
Освобождая часть крестьян от имущественного ценза, авторы судебной реформы, вероятно, предполагали, что на административные должности избираются самые зажиточные и «благонамеренные» люди. Но на практике богатые крестьяне старались избегать выборных должностей. В результате идея «крепкого мужика» на месте присяжного заседателя не осуществилась. Большая часть крестьян, попавших в списки присяжных на основании «служебного» ценза, были выходцами из беднейших слоев народа.
Такое явление, как численное преобладание крестьян в русском суде присяжных, невозможно оценить однозначно как для самих крестьян, так и для суда. Для крестьян участие в суде было тяжелой повинностью, от которой они не могли уклониться. В то же время это участие повышало уровень народного правосознания, имело большое воспитательное и образовательное воздействие. Присяжные заседатели из крестьян выгодно отличались тем, что они хорошо знали условия жизни и побудительные мотивы к преступлению большинства подсудимых, также принадлежавших к крестьянскому сословию. В 1873 году, например, крестьяне составляли 86,8% населения всех действовавших тогда 6 судебных округов и 61,9% всех осужденных судом [6, С.53].
С другой стороны, крестьяне, успешно справлявшиеся с делами о «бытовых» преступлениях (убийства, кражи и др.), были очень консервативны, когда дела касались преступлений против церкви или дел, имевших политическую окраску. В большинстве случаев приговоры присяжных были простыми и справедливыми (об этом говорит, в частности, низкий процент апелляций). Присяжные из крестьян выражали отношение народа к явлениям российской действительности и заставили изменить устаревшие и жестокие законы, не соответствовавшие представлениям народа о соотношении преступления и наказания.
С другой стороны, находились примеры и явной несправедливости присяжных по некоторым категориям уголовных дел: например, жестокость к конокрадам и святотатцам. снисходительность к преступлениям против женской чести и злоупотреблениям должностных лиц. Надо отметить и резкое увеличение числа оправдательных вердиктов перед большими православными праздниками. В результате репрессивность суда присяжных в рассматриваемый период была на 12% ниже репрессивности коронного суда [7, С. 51].
Суд присяжных по своему составу был самым демократическим из всех институтов, созданных в России в результате буржуазных реформ. Суду присяжных было предоставлено право помилования, что прежде являлось исключительной прерогативой верховной власти. Своей деятельностью жюри влияло на изменение российского законодательства, суд присяжных был олицетворением власти большинства в осуществлении одной из важнейших частей государственного управления - судебной власти.