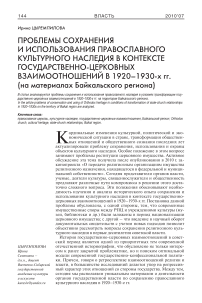Проблемы сохранения и использования православного культурного наследия в контексте государственно-церковных взаимоотношений в 1920-1930-х гг. (на материалах Байкальского региона)
Автор: Цыремпилова Ирина Семеновна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 7, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемы сохранения и использования православного наследия в условиях трансформации государственно-церковных взаимоотношений в 1920-1930-х гг. на территории Байкальского региона.
Православная церковь, культурное наследие, государственно-церковные взаимоотношения, байкальский регион
Короткий адрес: https://sciup.org/170165425
IDR: 170165425
Текст научной статьи Проблемы сохранения и использования православного культурного наследия в контексте государственно-церковных взаимоотношений в 1920-1930-х гг. (на материалах Байкальского региона)
К ардинальные изменения культурной, политической и экономической ситуации в стране, трансформация общественных отношений и общественного сознания последних лет актуализировали проблему сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия. Особое положение в этом вопросе занимают проблемы реституции церковного имущества. А-ктивное обсуждение эта тема получила после опубликования в 2010 г. законопроекта «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной и муниципальной собственности». Сегодня представители органов власти, ученые, деятели культуры, священнослужители и общественность предлагают различные пути компромисса в решении этого достаточно сложного вопроса. Эти положения обосновывают необходимость изучения и анализа исторического опыта сохранения и использования культурного наследия в контексте государственноцерковных взаимоотношений в 1920–1930-х гг. Постановка данной проблемы обусловлена, с одной стороны, тем, что современные имущественные споры между Р-ПЦ и учреждениями культуры (музеи, библиотеки и др.) были заложены в период национализации церковного имущества; с другой – что введение в научный оборот документальных свидетельств с учетом новых подходов позволит объективно рассмотреть вопросы сохранения религиозного культурного наследия в первые десятилетия советской власти.
ЦЫРЕМПИЛОВА Ирина
История государственно-церковных взаимоотношений в советский период является одной из приоритетных тем современной отечественной историографии, что обусловлено не только интересом к ранее закрытой проблематике, но и поиском оптимальной модели современной государственно-конфессиональной политики. Причем, говоря о ретроспективе взаимоотношений религии и власти, в большинстве исследований делается упор на репрессивный характер этих отношений со стороны государства. Между тем, сегодня мы располагаем уникальным материалом о деятельности органов государственной власти по сохранению православного культурного наследия в 1920–1930-е гг.
В первые годы советской власти была создана законодательная база, направленная на ограничение прав церкви, где основополагающим стал декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. Этот декрет лежал в основе всего «религиозно-церковного законодательства» в стране. На нем базировались все указы, постановления, инструкции, определявшие жизнедеятельность религиозных организаций и верующих в советском государстве. Тем не менее, несмотря на наличие основополагающего документа, регламентировавшего церковно-государственные отношения, уже в 1918 г. были приняты декреты, регулировавшие вопросы сохранения культурных ценностей: «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического значения», «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». Эти декреты стали основой для принятия в 1920 г. Народным комиссариатом просвещения специальной инструкции по учету, хранению и передаче религиозного имущества, имеющего историческое, художественное или археологическое значение. На следующий год был принят декрет «О ценностях, находящихся в церквях и монастырях», согласно которому церковное имущество распределялось на три категории: «имущество, имеющее историко-художественное значение» (подлежало исключительному ведению отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса), «имущество материальной ценности» (должно было выделяться в Государственное хранилище ценностей Р-СФСР-) и «имущество обиходного характера»1. Тем самым, созданная нормативная база позволила осуществить на местах учет культурноисторических ценностей, хранившихся в культовых зданиях.
В начале 1920-х гг. в стране была начата работа по созданию государственной системы охраны и использования историкокультурного наследия. Так, в 1921 г. было создано Главное управление научными, художественными и музейными учреждениями Наркомпроса – Главнаука, в ве- дении которого находились учреждения, занимавшиеся охраной историко-культурного наследия2.
На территории Б-айкальского региона местные власти приступили к решению религиозного вопроса с 1920 г., когда была окончательно установлена советская власть. При этом стоит отметить, что в период Гражданской войны у органов власти не хватало ни ресурсов, ни средств для полномасштабной реализации законодательных актов, направленных на ограничение деятельности религиозных институтов. В то же время в марте 1920 г. на базе музея Восточно-Сибирского отдела Р-ГО начал действовать новый орган охраны памятников Иркутской губернии – подотдел охраны культурных ценностей. Сотрудники подотдела добились постановки на учет ряда ценных в историческом и художественном плане церквей Иркутской епархии.
В целом, в годы Гражданской войны Иркутская и Забайкальская епархии сохранили свои земли и недвижимое имущество, что естественным образом открывало для местных органов власти возможности для борьбы с ними. В 1920–1921 гг. на территории региона был проведен ряд кампаний, направленных против церкви.
В ходе национализации монастырского имущества при активном участии спецслужб были изъяты сооружения и имущество иркутского Вознесенского монастыря. Следующим шагом стала «мощей-ная кампания», в ходе которой состоялось вскрытие мощей святителя Иннокентия. Принимая решение о вскрытии, Иргубком преследовал двойную цель: убрать предмет паломничества из храма и реквизировать все богатейшие принадлежности. Так, «мощи святителя находились в гробнице (раке) из чистого серебра весом в пять пудов. С амвона возвышались восемь беломраморных колонн, поддерживающих арку, украшенную 72 херувимами, а на куполе ее сиял золотой резной ангел. Внутри балдахина была помещена картина московских художников «Тайная вечеря», на ее раме висела золотая чаша, изготовленная в натуральную величину. Небольшой иконостас был увешан дорогими лампадами, среди них была серебряная лампада, подаренная цесаревичем Николаем во время его посещения монастыря в 1891 г. Тут же перед мощами стоял громадный подсвечник из чистого серебра весом в 8 пудов»1.
Специально созданная комиссия, состоящая из медицинских работников, ученых и представителей духовенства, официально засвидетельствовала отсутствие следов тления тела святителя. В ответ на эти действия архиепископ А-натолий в письме председателю Иркутского губревкома Шнайдеру отметил незаконность «удаления раки Святителя с освященными останками из стен монастыря» и просил светские власти «не вторгаться в вероисповедную жизнь Церкви»2. Одновременно руководство Иркутской епархии обратилось к верующим с посланием: «…Мощи Иннокентия вскрыты: облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено и оставлено в храме открытым. Церковь закрыта. Б-огослужение прекращено. Монастырь и храм охраняются конным караулом с целью не допустить никого в храм…»3
На заседании 30 января 1921 г. Иркутский губревком под сильным давлением верующих принял решение положить останки святителя в гробницу и вернуть «попам». Такой исход дела не устраивал организаторов кампании по вскрытию мощей. В Омск срочно был направлен запрос о дальнейших инструкциях. Сибкрайком поручил вывезти «мумию» в Москву и передать на выставку по охране здоровья4. 1 марта отряд Иркутской губчека погрузил в вагон № 82033 поезда № 3 ящик с мощами святителя, на следующий день поезд отправился в Москву. Только в 1990 г. мощи святителя Иннокентия были обнаружены в Ярославском историко-краеведческом музее и возвращены в Иркутск.
Следующим этапом, характеризующим сложность и противоречивость государственно-церковных взаимоотношений, стала кампания по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих в 1921– 1922 гг.
На территории Б-айкальского региона данную кампанию следует рассматривать в контексте особенностей политической ситуации. Наиболее результативно эта кампания была проведена на территории Иркутской губернии, а в Забайкалье затянувшееся национально-государственное строительство отодвинуло ее проведение до 1923 г. Механизм кампании мало чем отличался от других регионов страны и включал создание специальных комиссий, контроль со стороны партийных и силовых структур, развертывание агитационных мероприятий, проведение показательных демонстраций, аресты священников и верующих и т.д. Сегодня установить точный объем изъятых церковных ценностей не представляется возможным, также невозможно установить, какая часть из ценностей реально пошла на помощь голодающим, а какая часть культового наследия была утилизирована, превратившись в груды драгоценного металла.
Но в ходе дальнейших мероприятий по отделению церкви от государства на местах стали создаваться специальные комиссии по приему и фактической проверке церковного имущества. Так, 18 апреля 1923 г. в г. Ч-ите были созданы две комиссии по учету и оценке всех имеющихся в городе церквей и молитвенных домов. Интересны сведения, которые были собраны в ходе проверки имущества церквей. Комиссия под руководством Киргизова, проверив имущество пяти церквей и двух молитвенных домов (Троицкая, Кладбищенская, Михаило-А-рхангельская, Иоанно-Предтеченская церкви, женский монастырь и др.), выяснила, что в них находится ценностей на сумму 3 637 руб. 50 коп., которые можно изъять, «каких-либо драгоценных камней и ценного шитья на ризах нет… технически легко снять украшения с Е-вангелий. Снятие же украшений с икон является затруднено, так как целость икон будет нарушена», «есть чаши из польского серебра», «снять ризы с икон можно, но чтобы не оскорблять религиозного чувства верующих, надо ценные иконы взять совсем, так как они не на иконостасах, а стоят отдельными, и после снятия риз их не возвращать совсем»5.
Согласно нормативным актам, имущество культовых зданий должно было передаваться группам верующих. После троекратного публичного извещения групп верующих и в случае, если не оказывалось желающих принять их в свое пользование и под свою ответственность, здание с имуществом подлежало закрытию и использованию в других целях. Практический опыт 1920-х гг. показывает, что деятельность местных органов власти в этом направлении была отмечена целым рядом замечаний и недостатков: например, описи церковного имущества не сличались с описями, составленными в дореволюционный период, при передаче имущества общинам верующих не всегда заключались договоры, не осуществлялась оценка стоимости имущества по современной стоимости, отсутствовали сведения об изъятом имуществе не богослужебного характера и денежных сумм и др.1
21 августа 1924 г. Народным комиссариатом финансов по линии секретной части общего управления был издан циркуляр № 19/ф, в котором определялся порядок ликвидации предметов религиозного культа. Согласно циркуляру определялось, что ликвидация молитвенных зданий должна производиться административным отделом НКВД в присутствии представителей финотделов, коммунотделов, губмузея и групп верующих. Все предметы из драгоценных металлов должны поступать в Гохран, все предметы исторической или художественной ценности – в Главмузей. Остальные предметы, если они освящены (иконы, ризы, хоругви, покровы и т.д.), передавались верующим «для переноса в другие молитвенные здания того же культа… Такие предметы ни уничтожению, ни продаже, ни хранению в советских складах не подлежат». Предметы неосвященные (мебель, ковры, колокола и пр.) подлежали зачислению в Госфонд и реализации через комиссию на общих основаниях2.
Деятельность Гохрана в 1920–1930-е гг. как государственного хранилища ценностей, созданного для их централизации и учета, была далека от идеала. Как свидетельствуют современные исследования, следы многих памятников искусства, попавших в Гохран, утеряны навсегда, значительная часть культурных ценностей, произведений искусства, в том числе церковного, была вывезена за границу или продана. Памятники церковного искусства, попавшие в музеи, также имели неодинаковую судьбу. Предметы пропадали из-за неумелого и небрежного хранения, из-за непонимания истинной ценности каждого конкретного произведения, из-за общего низкого уровня теории и практики музейного дела3.
В 1920–1930-е гг., наряду с экономическим и налоговым прессингом, административными притеснениями, развернутой антирелигиозной агитацией и пропагандой, особым направлением в деятельности органов власти стало закрытие культовых зданий. Наряду с тем, что культовые памятники рассматривались как символы и пережитки прошлого, мощным стимулом к закрытию храмов было и то, что 40% вырученных от реализации сумм шло в местный бюджет.
Б-ольшая часть культовых зданий была передана различным учреждениям и ведомствам, причем в этом вопросе видное место занимал Наркомрос, который давал практические рекомендации по использованию зданий и церковного имущества. Немалое количество культовых зданий, не использовавшихся по прямому назначению, приходили в негодность и постепенно разрушились. И лишь небольшая часть православных храмов была включена в список памятников архитектуры, благодаря чему они сохранились до наших дней в наиболее достойном виде. Так, в 1925 г. Крестовоздвиженская, Троицкая, Владимирская церкви г. Иркутска постановлением Иркутского губисполкома были объявлены памятниками архитектуры, Б-огоявленский собор был включен в списки памятников искусства и старины, рекомендованных к сохранению, Спасская церковь состояла на учете сектора науки Наркомпроса4.
В рассматриваемый период одной из форм использования культового здания стал атеистический музей или отдел. Так, к 1929 г. по стране было открыто 30 антирелигиозных музеев, располагавшихся в бывших храмах5. В 1931 г. вышло постановление коллегии Наркомпроса «Об антирелигиозном музейном строительстве», в котором констатировалось «все еще неудовлетворительное состояние антирелигиозного музейного строительства». Предлагалась следующая схема развития сети антирелигиозных музеев: «а) Центральный антирелигиозный музей всесоюзного значения (ЦА-М) Центрального совета союзов воинствующих безбожников; б) антирелигиозный музей республиканского значения – Государственный антирелигиозный музей в Ленинграде (в б. Исаакиевском соборе); в) антирелигиозный музей или антирелигиозные отделения краеведческих музеев в краевых и областных центрах; г) антирелигиозные отделения или антирелигиозные экспозиции в районных и местных краеведческих музеях»1.
На территории Б-айкальского региона была также начата работа по «антирелигиозному музейному строительству». Так, в 1933 г. из Верхнеудинского краеведческого музея был выделен антирелигиозный отдел, который затем становится самостоятельным музеем (просуществовал до 1941 г.). Директором А-нтирелигиозного музея была назначена А-.И. Герасимова. А-нтирелигиозному музею, согласно выписке из протокола № 125 заседания Президиума ЦИК Б-МА-ССР- от 16 мая 1934 г., было передано здание Верхнеудинского Одигитриевского собора как памятника 1-й категории историко-архитектурного значения2.
5 сентября 1933 г. было принято решение Иркутского горсовета о передаче здания Крестовоздвиженской церкви ВосточноСибирскому краевому музею для организации антирелигиозного музея3. До принятия этого решения было проведено обследование состояния церкви, инициированное музейными работниками. А-кт от 28 октября 1932 г., подписанный от дирекции краевого музея А-. Окладниковым, инспектором ОХР-ИС Ф. Карантонисом, представителем ОХР-ИС М. Одинцовой, инспектором по церковным делам при горсовете Сусловым, членом исполнительного органа Крестовоздвиженской церкви Дейниковским, свидетельствует, что церковь по архитектурному облику относится «к местным Сибирским, точнее Иркутским образцам стиля “позднего Б-арокко” (конец первой половины XVIII столетия)… изумительное богатство скульптурных украшений, архитектурного узорочья, хранящих отзвуки более раннего времени из истории русской архитектуры и отражающих влияние Восточного искусства… выдвигают эту церковь на первое место в ряду древних каменных церквей Восточной Сибири, а также и ЗападноСибирского Края… А-рхитектурный комплекс… дополняется ценнейшими образцами резьбы по дереву (иконостас) и церковной живописи. Иконостас летней церкви 1758 года… его формы – сдержанные и строгие для пышного Е-лизаветинского Б-арокко, не находят себе точных аналогий и уникальны для СССР-»4. В целях сохранения, восстановления и использования Крестовоздвиженской церкви как памятника высшей категории, имеющего всесоюзное историко-художественное значение, комиссия считала необходимым «передать здание в целом, со всем имуществом научно-музейного значения в современном его составе, в распоряжение ОХР-ИСа и органов народного образования для использования в культурно-просветительных и научных целях»5. Создание антирелигиозного музея спасло здание церкви от полного разрушения. В это время именно сюда свозились церковные реликвии, иконы, предметы культового обихода из закрываемых православных храмов. В 1943 г. здание было возвращено верующим, а с 1948 г. постановлением Совета Министров Р-СФСР- оно находится под охраной государства.
А-налогичные шаги предпринимались музейными работниками г. Ч-иты. Так, 2 февраля 1930 г. в Ч-итинский городской Совет было подано ходатайство от совета Ч-итинского музея им. А-.К. Кузнецова, историко-революционной секции Забайкальского отделения Дальневосточного общества краеведения и совета Забайкальского отделения Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев «о передаче
Ч-итинскому музею церкви декабристов со всем находящимся в ней имуществом и усадьбой с изъятием из рук церковников». Согласно данному документу, основанием для этой передачи являлось то, что Михайло-А-рхангельская церковь «представляет собой старейшее сохранившееся здание, представляющее собой образец старинной архитектуры... содержащее в себе и старинную церковную живопись и старинный редкой работы иконостас». В связи с тем, что церковь «имеет тесную связь с памятью пребывания ссыльных декабристов, тюрьма которых и домики, построенные их женами, ютились вокруг этой церкви… имеются иконы, писанные декабристом Б-естужевым и в ограде церкви две могилы, связанные с декабристами», предполагалось зарегистрировать ее как историко-революционный памятник1. В дальнейшем здание церкви, сторожки, ограды, предметы и вещи были переданы Ч-итинскому музею революции. Однако здание церкви в советский период использовалось под склады, общежитие и только в 1985 г. в здании Михайло-А-рхангельской церкви был открыт музей «Церковь декабристов».
Тем самым, несмотря на весь комплекс антирелигиозных мероприятий, местными органами власти в середине 1930-х гг. предпринимались определенные меры по сохранению научных и музейных ценностей при ликвидации культовых зданий. В частности, это нашло выражение в принятии 16 мая 1934 г. постановления Президиума ЦИК Б-МА-ССР- № 307 «Об охране предметов музейного значения». Особое внимание обращалось на «недопустимое отношение со стороны А-ИК-Р-ИК, горсоветов и сомсельсоветов к охране имущества ликвидированных зданий. В результате существующей недооценки и безобразного отношения к охране имущества музейные ценности, имеющие нередко валютное значение, подвергаются порче, истреблению и рас-хищению»2. В качестве примеров приводились следующие факты расхищения, уничтожения культового имущества: «…А-рхив Посольского монастыря давно уничтожен бесследно», в Кяхтинском соборе «серебряные ризы, сделанные на средства местного кулачества итальянскими художниками, имеющие большую ценность как художественная редкость, реализованы как серебро на лом, а некоторые оказались похищенными»3.
Президиум ЦИК Б-МА-ССР- предлагал председателям А-ИК-Р-ИК и горсоветов под личную ответственность «обеспечить охрану вещей музейного значения… установить систематическую проверку всех инвентарных книг и описей имущества, в случае расхищения привлекая виновных к судебной ответственности… предложить Наркомфину усилить контроль по учету и использованию культового имущества, подлежащего зачислению в госфонд»4.
Таким образом, в 1920–30-е гг. основные направления государственной антирелигиозной политики определяли негативное отношение к историческому прошлому, что, в свою очередь, привело к уничтожению большей части уникальных памятников и церковных ценностей. Но при этом в деятельности органов местной власти, практиков и специалистов имели место попытки диалога, принятия конкретных мер, направленных на сохранение и использование религиозного культурного наследия.