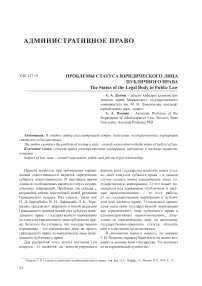Проблемы статуса юридического лица публичного права
Автор: Демин Алексей Афанасьевич
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Административное право
Статья в выпуске: 4 (17), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье автор рассматривает вопрос наделения государственных корпораций статусом субъекта права.
Субъект права государственная корпорация, публичные и частные правоотношения
Короткий адрес: https://sciup.org/14317412
IDR: 14317412 | УДК: 347.19
Текст научной статьи Проблемы статуса юридического лица публичного права
Subject of law, state – owned corporation, public and private legal relationship.
Первым вопросом при применении юридической ответственности является определение субъекта ответственности. В настоящее время одним из злободневных является статус государственных корпораций. Проблема эта связана с ведущейся сейчас подготовкой новой редакции Гражданского кодекса. Ряд ученых, таких как П. Д. Баренбойм, В. И. Лафицкий, Л. К. Терещенко, предлагают закрепить в новой редакции Гражданского кодекса новый вид субъекта гражданского права – государственную корпорацию со статусом юридического лица публичного права. Хотелось бы уточнить, что государственная корпорация – это юридическое лицо не просто гражданского права, но юридическое лицо гражданского публичного права.
Для раскрытия этого тезиса поставим три вопроса: 1) является ли конституирующим фактом воля государства наделить какое угодно лицо статусом субъекта права – в данном случае создать новое юридическое лицо, государственную корпорацию; 2) что может пониматься под терминами «публичные и частные правоотношения» – то есть работает ли государственная корпорация в публичном или частном праве; 3) насколько приемлема категория государственной корпорации как юридического лица публичного права в административных правоотношениях, допустимо ли юридическому лицу, не имеющему государственно-правового статуса, обладать еще и властными полномочиями.
В отношении первого вопроса , по мнению Г. И. Петрова, «правосубъектность не может возникнуть помимо воли государства. Это вытекает из ее юридической сущности»1.
Исторически появление субъекта права связано с развитием товарообмена. Без необходимости товарного обмена и сравнения стоимостей предметов обмена не было бы необходимости и в самой конструкции субъекта права. К. Маркс считал, что в обществе товаропроизводителей «продукт труда приобретает свойство товара и становится носителем стоимости», в то же время, добавляет Е. Пашуканис, «человек приобретает свойство юридического субъекта и становится носителем права». И это объективное основание правосубъектности. Здесь отражается связь права с базисом. Все попытки в истории субъективно назначить кого-то или что-то субъектом права обычно наукой не признавались. Кроме, пожалуй, юридического лица. Например, римский император Калигула утверждал своим подвластным, что его лошадь лучше выполнит обязанности сенатора, чем неугодные ему сенаторы как физические лица. Назначить субъектом права лошадь – это не оригинальная фантазия. Если считать, что мы субъективно можем признавать или не признавать за кем или чем угодно статус субъекта права, то и пограничная собака, и другие животные, и даже знамена, иконы могут быть субъектами права2 – в США объявляют же кошку наследницей капиталов умершего олигарха.
Субъект, не имеющий товарного наполнения своей правосубъектности, становится бессмысленным как юридическое лицо. Без наличия собственного имущества статус юридического лица теряет смысл. И только комбинации хитростей движут желанием приписать правосубъектность широкому кругу лиц гражданского права в экономическом обороте, не обладающих собственным имуществом или иными эквивалентами товара. Но такие позиции отрывают нас от базиса как причины и основы регулируемых правом отношений. Спекулянт, как владелец не собственного товара, наживающийся только на посредничестве, преследуется законом во всем мире. И никакими ухищрениями с различными наименованиями новых юридических форм невозможно заменить необходимость наличия прибавочного продукта для признания правосубъектности, особенно тех организаций, где такой продукт не создается. Государственные органы при-
Административное право бавочный продукт не создают. Государство призвано не производить, а организовать производство. И здесь становится сомнительной необходимость наделять государственные органы правосубъектностью, в том числе и публичной.
В советской правовой науке было общепризнанным мнение, например, А. В. Венедиктова о нецелесообразности применения термина «юридическое лицо административного права» и тем более термина «юридическое лицо публичного права» к обозначению коллективных субъектов права.
Образование государственных корпораций с передачей государственных средств на их функционирование – это идея первоначального накопления капитала за чужой счет, за счет государственного бюджета. Но для такого паразитического первоначального накопления срок в истории Российской Федерации уже прошел. Пора в экономике зарабатывать самостоятельно, не надеясь на приватизацию чужого, государственного имущества. Не получить деньги из государственного бюджета, а заработать.
Ну а если государственная корпорация – не хозяйствующий субъект, а государственновластный, то финансирование его из государственного бюджета, как и финансирование обычного государственного органа, не может быть ограничено. Гибрид этих форм общественной деятельности создает возможности для перераспределения через эту форму чужих средств (государственных) в свою пользу (частную).
Второй элемент понятия юридического лица публичного права, который необходимо определить для целей настоящей статьи, – его отношение к «публичной» сфере общественных отношений. Иногда термин «публичный» прямо связывают с властным характером таких отноше-ний3. В других случаях под термином «публичный» понимают общественную пользу, возникающую в результате деятельности частных лиц. Именно эта двусмысленность заставляет строить такие спорные конструкции в праве, как государственная корпорация.
Разграничение права на частное и публичное вызывало всегда и вызывает сейчас значительные трудности в связи с подвижностью, исторической обусловленностью границы между ними.
Так, в античной Спарте граждане не могли распоряжаться землей, т. к. земля считалась собственностью государства, а граждане – только ее пользователями. Значит, земельные отношения были в это время публичными, как и при социализме. В феодальные времена земля продавалась и дарилась, в том числе и королем, значит, это был вопрос частного права.
Швейцарский юрист Б. Кнапп и в современном административном праве находит публичные и частные правоотношения4. Публичный характер каких-либо правовых отношений определяется в конечном счете степенью связанности данного правоотношения с общественным разделением труда и регулируемыми правом интересами государственно организованного общества5.
Если отношения собственников прибавочного продукта, продукта рыночного обмена, не имеют общественной значимости, не затрагивают интересы иных лиц, прямо не участвующих в таком обмене, т. е. не имеют публичного характера в гражданско-правовом смысле, то регулировать их правом нет необходимости. Право – это институт всегда публичный.
Следовательно, гражданское право можно отнести к публичным отраслям права. Закрепившееся в обиходе понятие гражданского права как эквивалентного частному праву в своей сути условное. И включение в Гражданский кодекс Российской Федерации понятия «юридическое лицо публичного права», если оно не касается властных правоотношений, практически не требуется, поскольку все гражданское право настолько публично, насколько регулирует в публичном интересе отношения частных лиц. Властные же правоотношения гражданское право не регулирует по отраслевому распределению правового материала.
Дело не в том, что, как говорил В. И. Ленин, для нас все в области экономики публично6, а в том, что всякий раз, когда люди отрывались от базиса, они были посрамлены в своих умозаклю- чениях. Наличие прибавочного продукта для рыночного обмена является непременным условием гражданско-правового статуса субъекта права. Гражданское право как регулятор рынка, экономических отношений, обмена прибавочными стоимостями властными категориями, даже и под революционными терминологическими новациями, заниматься не должно. Не является научно обоснованным и смешение властных и коммерческих правоотношений в статусе субъекта права. В этом случае немедленно возникает монополия, и на свободном конкурентном рынке сразу можно ставить крест7.
В настоящее время под стремлением включить форму публичного юридического лица с элементами властных отношений в ГК РФ8 мы понимаем желание распространить цивилисти-ческие категории на властные отношения. Или, как говорит Н. М. Казанцев, допустить цивили-стическую деформацию публичных отношений9, понимаемых как государственная власть. Такая позиция известна как концепция В. В. Лаптева о хозрасчетном государственном органе.
Третий элемент рассуждения о юридическом лице публичного права связан с бурным созданием российскими реформаторами все новых и новых категорий субъектов права в области экономического оборота, в большой мере заимствованных из иных правовых систем и насаждаемых в не соответствующие первым социально-экономические условия Российской Федерации. Из новаций юридических лиц сообщается, что в России может появиться новый их вид – хозяйственное партнерство. Предполагается, что появление хозпартнерств облегчит жизнь инновационным стартапам10.
Например, заимствовали акционерное общество, но оказалось, что в нашем акционерном обществе нет акций (они номинальны и гражданам, то есть инвесторам, не выдаются), нет самого понятия концентрации капитала граждан, членов акционерной компании, нет дивидендов, нет публичной отчетности перед инвесторами (гражданами), нет биржи со свободным и контролируемым обращением ценных бумаг этих компаний и есть чрезвычайно затрудненный механизм защиты прав граждан на акционерный капитал. В общем, форму (название) соблюли, но с такими извращениями, что можно говорить, что в правовом смысле завлабами изобретен совершенный урод, термину «акционерное общество» не соответствующий.
Гибридный институт государственных корпораций – из той же области. И корпорации, и партнерства американского права в русском языке имеют иные, понятные населению термины, объединения, компании. Применение иностранных слов является словомаскирующим существо новых субъектов права приемом, что затрудняет гражданам пользование этими новыми образованиями и дополнительно отражает ущербность их сущности. Несколько исследователей в своем докладе пишут, что военно-политическому руководству страны необходимо предпринять серьезные целенаправленные усилия по коррекции того процесса «корпоративного строительства», старт которому дан в российском ВПК. «Создание холдингов из предприятий оборонного машиностроения, производящих вооружения и военную технику одного класса, может негативно сказаться на качестве разработок и конечной продукции»11. То есть новые формы организации производства не всегда могут вести к прогрессу, они отражают просто неумение пользоваться старыми.
Создание некоммерческих государственных корпораций является очередным показателем провала административной реформы Путина– Фрадкова 2003–2004 гг., поскольку созданный в результате «реформы» государственный аппарат, как выясняется, не покрывает всех функций государства. Поэтому и создаются новые субъекты права.
В статусе государственной корпорации реформаторы объединили качества всех трех органов исполнительной власти реформы (министерств, агентств и служб), да еще и присоединили им качества субъекта гражданского права с полным отделением его ответственности от государства, но за государственный счет. То есть это очередная форма отмывания капиталов, полученных нетрудовым, то есть преступным путем. Но главное, что такая форма правосубъектности посягает на суть государства как наиболее универсальную форму организации взаимодействия населения в процессе разделения труда12, узурпирует функции и властные качества государства, подменяет государство, является суррогатом государства. А в этой форме как труд, так и его производительность изъяты из главных критериев оценки общественной ценности правосубъектности и самой необходимости государственных корпораций.
Кроме того, такая форма организации общественных отношений отрывает действительную основу государства, человека и гражданина от любого контроля за деятельностью такого нового субъекта права, как «государственная» корпорация. Объявление государственной корпорации субъектом, имеющим властные полномочия, юридическим лицом публичного права, но самостоятельным (независимым от государства) лишает граждан возможности законно влиять на параметры ее деятельности, по существу, разрушает государственность народа. Гражданин в своем государстве остается ни при чем. Это реакционная идея, недостойная никакого типа демократии. В реальности вся «перестройка» пронизана лаптевской идеологией хозрасчета государственного органа и оценкой Г. Х. Попова, утверждавшего, что «взятка – зарплата чиновника».
Новации в области правосубъектности, передача властных государственных функций самоуправляемым организациям и создание гибридных государственно-частных организаций находятся прямо в русле указаний съездов КПСС о переходе к коммунистическому общественному самоуправлению и передачи государственных функций общественным объединениям. «В связи с указанной XXI съездом Коммунистической партии Советского Союза задачей постепенной передачи многих функций, выполняемых государственными органами, в ведение обще- ственных организаций круг административноправовых отношений, складывающихся без непосредственного участия органов государства, будет расти», – гласит один из документов съезда. Для лиц антикоммунистической идеологии следование курсу КПСС становится необъяснимым. В результате в Российской Федерации сохраняются черты социалистической системы права13, и никакой иной системы права в результате сумбурных, теоретически не выверенных «реформ» и законотворчества не возникает.
Из трех существующих и общепризнанных организационно-правовых форм субъектов права, претендующих на статус юридических лиц, а именно органов, учреждений и предприятий, понятию юридического лица публичного права наиболее соответствуют только учреждения. Юридическими лицами публичного права являются юридические лица гражданского права, в цели которых включено удовлетворение общественных потребностей путем предоставления услуг населению.
Прекрасно изучил эти субъекты права саратовский ученый Д. Н. Палагин, рассматривая их в рамках Закона об автономных учреждениях. Он прямо называет их юридическими лицами публичного права с 9 характерными для них признаками. К таким юридическим лицам гражданского публичного права он относит широкий круг самых распространенных в общениях с гражданином организаций14, но в первую очередь образовательных учреждений. И в этом отношении государственные органы, названные в административной реформе Путина–Фрадкова 2003–2004 гг. федеральными агентствами, в отношении предоставления услуг выпадают из числа властных органов государства, а по своей сути относятся к автономным учреждениям гражданского права в соответствии с одноименным законом.
Сложнее делать заключения, обладают ли эти учреждения как субъекты гражданского права еще и властными полномочиями по отношению к потребителям их услуг, посетителям кафе, школ, библиотек и т. д. и являются ли эти отношения властными, государственно-властными отношениями.
Что касается статуса властных субъектов государственного аппарата, то в самом общем смысле можно утверждать, что власть неделима на круг лиц, ее осуществляющих. Все они говорят именем государства, проводят волю государства и обеспечиваются государством всеми необходимыми средствами для выполнения своих функций – от обеспечения государственным имуществом до применения санкционированного государством принуждения к их выполнению.
Смешивать власть с бизнесом – это либо безграмотность, либо признак злого умысла, поскольку прибавочного продукта при таких комбинациях не создается, он только перераспределяется, причем в одну сторону, из кармана государства. Такой умышленно убыточный для государства путь вполне резонно квалифицировать по Уголовному кодексу как мошенничество, поскольку возникают доходы организации от «некоммерческой» деятельности, связанной с пользованием государственными бюджетными средствами в своих частных интересах. Государственные корпорации остаются приемом перераспределения бюджетных денег в частные руки, то есть узаконенным воровством, поскольку приобретение «собственности» осуществляется нетрудовым путем. В гражданско-правовом смысле это все подпадает под действие гл. 70 ГК РФ «Неосновательное обогащение» и наказуемо.
В реальности в настоящее время проблема юридического лица публичного права в своем существе является проблемой присвоения государственных функций частными лицами в пол- ном соответствии с социал-дарвинистской теорией Е. Т. Гайдара о приватизации государства бюрократией и на этом юридическом основании является перераспределением как государственного имущества в частные руки, так теперь уже и государственной власти. Однако природа государства не такова. Прежде всего, надо понимать сущность государства и специфические особенности его отношений с населением. Реальное функционирование такого рода образований, как «независимые» самоуправляемые организации, четко проявилось в вопросе, который задал 18 мая 2011 г. представитель крестьянства Дальнего Востока президенту на его пресс-конференции. Этот вопрос касался реального функционирования новых субъектов права, создаваемых в результате «перестроек» и «радикальных экономических реформ». Представитель отметил, что на Дальнем Востоке арбитражные управляющие как деятели негосударственных, «самоуправляемых» цеховых компаний, основанных в своем статусе на смешении статуса субъекта гражданского права с властными государственными функциями, практически уничтожают крестьянство банкротством и – что самое страшное – именем государства.
Что касается административной ответственности государственных органов и должностных лиц, то она представляется вполне бессмысленной, так как в экономическом плане является перекладыванием бюджетных средств из одного кармана государства в другой, а в правовом смысле становится маскировкой неправильно работающего государственного аппарата тем, что отвлекает на некритичную для этой ситуации административную ответственность юридического лица. Неработоспособность государ- ственного аппарата исправлять надо санкциями к высшим должностным лицам государства (включая отзыв с должности), не настолько компетентным, чтобы уметь наладить работу государственного аппарата, когда вместо правильно налаженных дисциплинарных санкций к недобросовестному должностному лицу или государственному органу взыскание, штрафное наказание применяется к все тому же общенародному государственному бюджету. Получается, за неквалифицированный государственный аппарат народ платит дважды – сначала оклад неработающему надлежащим образом должностному лицу, а затем и штраф из бюджетных денег в казну государства. Причем административный штраф, применяемый к должностному лицу, никогда не может компенсировать убытки государству, народу, причиняемые неквалифицированными действиями такого должностного лица.
В заключение отметим, что надо выступать против подмены государственных органов новыми организациями, необходимо обеспечить нормальное функционирование государственного аппарата даже и в имеющемся формате. Для этого нужно немного – добиться, чтобы президент, председатель правительства, министры и иные главы органов государственного аппарата надлежащим образом выполняли свои функции, служебные обязанности. В настоящее время они недоступны для применения ответственности по инициативе гражданина, поскольку исключены даже из законодательства о государственной службе.
Административистам надо, по нашему убеждению, правосознанию, выступить против растаскивания государственных властных полномочий по субъектам гражданского права.
Список литературы Проблемы статуса юридического лица публичного права
- Петров Г. И. Сущность советского административного права/отв. ред. О. С. Иоффе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. С. 73.
- Демин А. А. Субъекты административного права. М.: Книгодел, 2010. С. 13-14.
- Некоторые ученые прямо различают публичные и властные отношения. См.: Турчинов П. И. Концепция публичной и государственной службы Российской Федерации. М., 2001.
- Knapp Blaise. Précis de droit administratif. 4-ème éd. Bâle et Francfurt-sur-le-Main. 1991. Р. 18-22.
- Демин А. А. Административное право Российской Федерации: курс лекций. М.: Зерцало-М, 2002. С. 11.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 156.
- Бабурин В. Евгений Гонтмахер и Михаил Делягин об инфляции и общей экономической ситуации в России. URL: http://svobodanews.ru/Transcript/2007/11/19/20071119200033087.html
- Баренбойм П. Д., Лафитский В. И., Терещенко Л. К. Юридические лица публичного права в доктрине и практике России и зарубежных стран/под ред. В. П. Мозолина, А. В. Турбанова. М.: Юстицинформ, 2011. С. 79, 180.
- Казанцев Н. М. Семантические критерии и преткновения административного реформирования//Информ. проблемы в сфере административной реформы; отв. ред. И. Л. Бачило. М.: ИГП РАН, 2005. С. 53.
- URL: http://top.rbc.ru/economics/21/04/2011/579837.shtml
- Итоги с Владимиром Путиным: кризис и разложение российской армии/М. Ремизов [и др.]. URL: http://www.apn. ru/publications/article18474.htm
- Демин А. А. Экономическое содержание и материалистическое понимание статуса субъекта административного права//Социально-экон. и правовые аспекты рыночных реформ: материалы междунар. научно-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та экономики, управления и права, 2008. Ч. I. С. 73-91.
- Демин А. А. Сравнительный анализ правового регулирования государственной службы в странах различных правовых систем мира//Гос. служба в странах основных правовых систем мира. Законодательство. М.: Книгодел, 2008. С. 24-25.
- Палагин Д. Н. Административно-правовой статус государственных автономных учреждений: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 9-10.