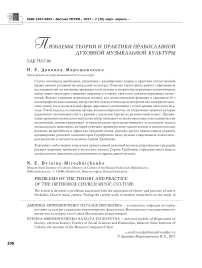Проблемы теории и практики православной духовной музыкальной культуры
Автор: Двинина-мирошниченко Н.Е.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам, связанным с разобщением теории и практики отечественной православной духовной музыкальной культуры. Отмечая тщательную работу современных исследователей по изучению древнерусской музыки и творчества церковных композиторов, автор видит некоторое смещение акцентов в сторону светского анализа церковных песнопений. Высоко оценивая церковную музыку как иконозначимый феномен и сравнивая её с иконографическим каноном, автор считает недопустимым рассмотрение как содержательносмысловой, так и музыкальной сферы церковного песнопения с точки зрения светского подхода. Такой подход, по мнению автора, весьма поверхностен, не затрагивает теории и истории церковного песнотворчества и сравним с анализом картин на религиозный сюжет. Процветание храмового певческого искусства автор связывает со всей совокупностью канонических песнопений, демонстрирующих «горизонтально-пространственную» культурную модель музыкального мышления, которой отвечают древнерусские одноголосные и многоголосные распевы, византийская и афонская традиции пения, распевы других православных церквей, аранжировки распевов композиторов Серебряного века, музыка современных композиторов-регентов, в частности дьякона Сергия Трубачева.
Теория и практика православной духовной музыки, возрождение традиций, расцвет церковно-певческого искусства, музыка сергия трубачева, горизонтальная модель музыкального мышления, иконозначимость православной музыки
Короткий адрес: https://sciup.org/144161073
IDR: 144161073 | УДК: 783-7.06
Текст научной статьи Проблемы теории и практики православной духовной музыкальной культуры
Разобщение между теорией и практикой православной духовной музыки, несомненно, является одной из внутренних, но ключевых проблем состояния церковно-певческого искусства как национального культурного наследия на сегодняшний день, «когда закладывается фундамент обновлённой системы образования в России [5, с. 10]». Непопулярность древнерусских песнопений, а также их аранжировок выдающимися русскими композиторами, недооценка взаимосвязи культурных явлений – всё это во многом объясняется пробелами в программах музыкальных учреждений, ничтожно малой долей спецкурсов по истории и теории церковной канонической музыки, нехваткой кадров, отсутствием специалистов такого профиля, недостаточностью учебных пособий и нотных материалов по изучению русского канонического пес-нотворчества и применению его на практике. Но главная причина лежит в разрыве теоретических понятий о красоте канонического русского церковного пения и практических навыков пения усреднённой гармонической вертикали, весьма далёкой от истинной красоты.
При всём стремлении Русской православной церкви и государственных учреждений опираться на традиции «русской культуры и философские идеи соборности личности и общества [9, с. 32]», мы наблюдаем консервативные явления, связанные с отсутствием практики пения образцов древнерусской культуры: знаменного, демественного, путевого распевов, русского троестрочия, с засильем партеса, главенством достаточно формализованного обихода, с напряжённым отношением к широкому включению в практику богослужения византийского, афонского, болгарского, сербского, грузинского и других распевов православных церквей, недостаточным вниманием к шедеврам изложений древнерусских распевов в творчестве великих русских композиторов: Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Балакирева, С. В. Рахманинова, директора и преподавателей Синодальной школы: А. Д. Кастальского, Н. М. Данилина, П. Г. Чеснокова и других, Н. С. Голо- ванова, к современным каноническим сочинениям регентов: дьякона Сергия Трубачева, Г. Б. Печенкина, Г. Н. Лапаева, композитора В. Б. Довганя.
Отношение к названной проблеме современных исследователей находится либо в русле категоричного высказывания А. А. Гвоздецкого1 о том, что сегодня, к сожалению, «... знаменная культура не связывается с русской традиционной певческой (и не только певческой, но и в целом национальной) культурой... Такой взгляд не способствует включению древнерусского певческого искусства в исполнительскую и педагогическую сферы по ряду причин [3, с. 62]», и поэтому необходима установка «на обучение всех музыкантов основам древнерусской певческой культуры [3, с. 62]», либо в русле мнения Е. В. Герцмана2, который полностью отметает возможность возрождения древнерусского искусства: «... церковная музыка, как и всё человечество, прошла длительный путь развития. Поэтому все попытки вернуть её в прошлое обречены ... если бы сейчас в храмах запели песнопения, например, четырёх или пятивековой давности, то они были бы также далеки от мыслей и чувств прихожан, как и музыкальное мышление тех времён от современного [4, с. 66]».
В первом случае наблюдается некоторое превалирование методов палео- графии и роли семиотического значения знаменного распева в его теории и практике, где все преимущества отдаются только одноголосному распеву. Во втором случае налицо недооценка устной традиции и монастырской практики пения, сохранившей традиционное пение древних канонических песнопений, а также всего Серебряного века русской музыки, аккумулировавшего древнерусское музыкальное культурное наследие. Ведь современная культурологическая мысль рассматривает сильнейший подъём и необычайный расцвет культуры Серебряного века именно в ключе того, что он «заново открыл для себя культуру XVII века, на которую “золотой век” смотрел с пренебрежением, по-новому рассмотрел культуру Киевской и Московской Руси, их зодчество, иконопись, прикладное искусство [1, с. 24]».
Творчество современных композиторов-регентов также во многом недооценивается: «Музыканты (регенты, священнослужители), деятельность которых связана с церковью, создают сочинения для обслуживания ритуала (курсив наш. – Н. Д.), полностью сохраняя инвариантное единство всех параметров жанра [10, с. 202]». И более того, как некое позитивное качество рассматривается то, что мы считаем основной и тяжелейшей утратой современной православной музыки, а именно то, что «... в современных духовных сочинениях музыкальное начало выступает на первый план, музыкальная информация в определённом смысле заслоняет словесную, изменяя глубину духовного настроения [10, с. 202]», «... таким образом, при сохранении строгих канонических норм магистральная тенденция развития духовной тематики в современном творчестве
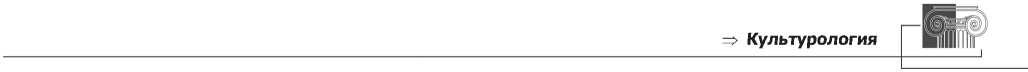
связана с достаточно свободным подходом в отношении её музыкальной интерпретации [10, с. 202]».
Даже достаточно последовательные работы по исследованию состояния современной церковной музыки совмещают несовместимое: работу композитора, пишущего богослужебную музыку, и светский анализ музыки, «заслоняющей» содержательную сторону богослужебного текста. Не принимается во внимание тот факт, что цели и задачи произведения на религиозный текст и церковного песнопения разнятся практически так же, как западноевропейские картины на религиозную тематику и русская иконография. В первом случае целью является изобразительная функция, во втором случае цель песнотворчества – это констатация Царства не от мира сего, «окно» в Божественный мир. Богослужебную музыку необходимо рассматривать и оценивать не с позиции светских категорий и не только как «опыт сакрального боговдохновенного звукосозерцания [7, с. 103]», а именно с позиции её иконозначимого фактора.
Так, догматики знаменного распева – это ортодоксально-точное и вместе с тем прекрасное поэтическое изложение догматов Православной веры.
Канон певческого искусства исследует Т. Ф. Владышевская1, подчёркивая в нём идею соборности средневекового творчества, где задачей музыканта было «передать божественные мелодии небес- ной иерархии, небесные архетипы ... воссоздание божественного образа, передаваемого с помощью древних священных подлинников [2, с. 126]». В этом ключе автор проводит параллели между готовыми моделями (архетипами) невменного письма: фитами, лицами, условными графическими формулами, и собранием иконописных образов, которые назывались подлинниками и служили сохранности канона. В прорисовке, определённом порядке наложения на доску деталей автор также усматривает сходные моменты с последовательной работой распевщика над написанием музыкальной рукописи: заставкой, вязью, текстом песнопения, инициалами, знаменами и киноварными пометами над знаменами. Говоря о «Троице», исследователи афористично отмечают, что «гениальный Андрей Рублёв, помимо того, что придал изображению цельный самостоятельный характер, превратил его в законченный богословский текст [2, с. 77]».
Тем не менее в наши дни господствует глобально-эклектичное понимание духовной музыки, где собственно канонической православной музыке зачастую отводится последнее место. Во многих исследованиях, посвящённых церковной музыке, акценты смещены. Так, долгожданный культурный шаг современного церковного музыкального искусства – отход от принципа духовного хорового концерта, вносящего явный светский элемент в богослужебную практику, упорно рассматривается как некое тяготение «клиросного концерта ... к предельному упрощению формы и сжатию цикла – до одночастности», где «в качестве наиболее показательных примеров могут быть приведены “Пречистая Мати” С. Трубачева (о. Сер- гий), “С нами Бог” о. Матфея (Мормыль1), “Под Твою милость” С. Толстокулакова [8, с. 37]». Вновь сопоставление несопоставимого. Выбранное сочинение из огромного наследия С. Трубачева не представляет собой авторский материал, это изложение 6-го ирмосного гласа (подобна «Волною морскою»). Второе указанное сочинение попросту не существует.
Действительно, недавно почивший архимандрит Матфей Мормыль предпочитал служить песнопение Великого Повечерия «С нами Бог» на Праздник Рождества Христова, исполняя знаменитое сочинение свящ. В. Зиновьева, а в Великий пост – напев Соловецкого монастыря. Отдельного авторского хорового концерта арх. Матфея нет, возможно, автор этого научного труда «случайно» спутал его с сочинением В. Зиновьева. Рядом с выдающимся именем С. Трубачева соседствует однодневное сочинение композитора С. Толстокулакова с формальной гармонизацией каждой ноты, с отсутствием комплиментарности голосов, что говорит о незрелости хорового мышления автора. В результате ожидаемая концепция «нового клиросного духовного концерта» оборачивается, образно говоря, «мыльным пузырём», где корни такого отношения к церковному пению – в недостаточном знании теории и истории православной духовной музыкальной культуры.
Музыка Сергия Трубачева является во многих отношениях образцом духовного композиторского творчества. Не имеющая ни малейшего намёка на партесную концертность, мелодика отца дьякона Сергия – благоговейная, неспешная,
-
1 Сохранена авторская падежная форма окончания.
удивительно внятная в той необходимой мере, чтобы предстоящие в церкви могли понять каждое слово поющегося песнопения. Своей мотивной организацией, близкой древнерусской попевочности, и зачастую нарочитым двухголосием («Милость мира») она напоминает древние напевы неким своим совершенным единообразием. По воспоминаниям Л. В. Шишки-ной2, современники С. Трубачева надолго запечатлевали те моменты, когда сам автор вставал за регентский пульт: «живое интонирование, живая фраза, слово, простота, естественность, молитвенность начинались в звуке, которых мы сами не могли достичь. Это чудо было на глазах. И все – преподаватели-профессионалы, студенты – сразу понимали, что перед нами колоссальный мастер, опытный мастер и дирижёр [10]». «Свете Тихий», «Богородице Дево», песнопения Великого поста, «Херувимская», «Достойно есть» и многие другие песнопения прочно вошли в репертуар современного клироса. До сегодняшнего дня девяносто процен- тов из них – рукописные, передаваемые от одного прихода другому, мгновенно был раскуплен двухтомник 2007 года.
Однако отношение к музыке С. Трубачева весьма различно. Если в среде исследователей древнерусской духовной музыки мы находим более чем положительные отзывы, где «результаты исследова- ния позволяют увидеть в духовно-музыкальном творчестве композитора-свя-щенника3 отражение его личного мировосприятия, в центре которого сосредото-
-
2 Шишкина Л. В. – преподаватель регентской школы при Московской Духовной академии, выпускница института имени Гнесиных.
-
3 Здесь фактологическая неточность: С. Трубачев не был рукоположен в сан священника.
чены духовные и национальные приоритеты, основанные на принципах церковнопевческих доминант древнеправославного пения [12, с. 138]», то в высказывании Ю. И. Паисова, профессора Хоровой академии, слышны пренебрежительные нотки: «в то же время некоторыми регентами (например, С. Трубачевым, В. Ко-вальджи) сочиняются и предназначенные для богослужения запричастные концерты, хотя и мало ценные в художественном отношении (курсив наш. – Н. Д. ), но естественно продолжающие традицию дореволюционных церковных песнопений [6, с. 235]». Мы вынуждены признать эту точку зрения несколько поверхностной, так как автор объединяет в статье творчество композиторов, не сопоставимое по масштабу написания, музыкальной одарённости и духовно-смысловому наполнению. Так, творчество композитора В. Ковальджи, не имеющее авторского оригинального материала, ставится на одну ступень с музыкой С. Трубачева, впрочем, так же как и на предыдущих страницах [см.: 6, с. 233], автор объединяет в качестве «позднеромантического» духовного концерта гениальное творчество С. В. Рахманинова, основанное на тщательнейшем изучении знаменного распева, и музыку А. В. Никольского, замечательного теоретика древнерусского искусства, но в своём творчестве не выходившего за рамки партеса. Так и в духовной, и в современной академической музыкальной среде зачастую недооцениваются высокие достижения русской церковной музыки подобно тому, как во второй половине XVII века дьякон Иоан-никий Коренев высмеивал русское трое-строчие как полностью несостоятельное явление с художественной точки зрения,
⇒ Культурология вычёркивая целый пласт национальной культуры.
Однако церковная музыка прогрессивных композиторов конца XIX века, а также сочинения современных композиторов-регентов, в частности Сергия Трубачева, – это отход от западноевропейского «вертикального» музыкального мышления, с его опорой на аккордовую вертикаль в рамках централизованной тональной системы, и возврат к «горизонтальной» культурной модели древнерусского музыкального мышления, с её критерием главенства слова над музыкой, с её тщательным выбором музыкально-смысловых акцентов, обусловленных богатой акцентуацией древнерусского языка. Поэтому последнее издание Октоиха 2011 года, которое вышло впервые без традиционного музыкального приложения, включавшего лучшие образцы церковного песнотворчества, в частности знаменный распев и его изложения, вновь демонстрирует расхождение большой теоретической работы, которая ведётся светскими и церковными учреждениями по расшифровке и популяризации древнерусского творчества, по анализу композиторского творчества в этой области, и практическим подходом к настольной книге каждого регента, к изданию, по которому осуществляется каждодневная служба, прежде всего предполагающая пение.
Возможно, более глубокое осознание иконозначимости нашего национального музыкального наследия позволит избежать однобокого взгляда на церковное искусство, изучение которого должно осуществляться во всех возможных направлениях, связанных с каноническими особенностями отечественной музыкальной духовной культуры во всей совокуп- ности его канонических принципов, нашедших отражение в знаменном, путевом, демественном распевах, в строчном трёх-голосии, в позднем многоголосии XVII века, в болгарской, сербской, грузинской, афонской, коптской, ранне- и поздневизантийской традициях пения, в русском народном духовном стихе, в шедеврах русской хоровой музыки на основе аранжировок древних распевов, в современных авторских сочинениях на оригинальном материале в ключе исконно русских принципов музыкального «горизон- тально-пространственного» мышления: главенства слова над музыкой, модальности (или поздней модальной гармонии), гетерофонной (подголосочной) фактуры, мотивной комбинаторики, свободы метроритма, тембрового единообразия, эпической формы.
Именно эти подлинные сокровища языка православной духовной музыкальной культуры составляют её уникальность как с точки зрения музыкального наследия, так и с точки зрения смыслового духовного содержания.
Список литературы Проблемы теории и практики православной духовной музыкальной культуры
- Аронова А. А. Предпосылки и причины появления «ренессансного типа личности» в России в конце XIX - начале XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 4 (72). С. 23-28.
- Владышевская Т. Ф. Музыкальная культура Древней Руси. Москва: Знак, 2006. 476 с.
- Гвоздецкий А. А. Знаменный роспев в современной музыкальной культуре: грани сопряжения и перспективы развития // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2011. № 2. С. 57-67.
- Герцман Е. В. Две исторические ипостаси греческой церковной музыки // Греко-русские певческие параллели: к 100-летию афонской экспедиции С. В. Смоленского: сборник научных трудов по материалам Бражниковских чтений / [сост. и науч. ред. А. Н. Кручинина, Н. В. Рамазанова]. Москва; Санкт-Петербург: Альянс-Архео, 2008. С. 47-66.
- Лобанов И. В. Высокое служение культуре: к 85-летию Московского государственного института культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 5 (67). С. 10-12.