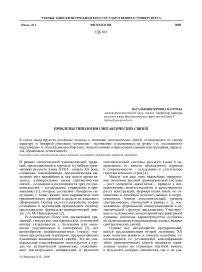Проблемы типологии синтаксических связей
Автор: Патроева Наталья Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются различные подходы к описанию синтаксических связей, отличающихся по своему характеру от бинарной оппозиции «сочинение - подчинение» и выявляемых на уровне т. н. «осложненного предложения» (с обособленными оборотами, пояснительными и присоединительными конструкциями, парантезой, обращением, сегментацией).
Синтаксическая связь, сочинение, подчинение, обособление, парантеза, обращение
Короткий адрес: https://sciup.org/14749378
IDR: 14749378 | УДК: 801
Текст научной статьи Проблемы типологии синтаксических связей
В рамках отечественной языковедческой традиции, представленной в научных и учебных грамматиках русского языка XVIII – начала XX века, сложилась классификация, предполагающая выделение двух важнейших и, как долгое время казалось, универсальных видов синтаксических связей – сочинения и подчинения (в трех его разновидностях – согласование, управление и примыкание) [1], которые составляют бинарную оппозицию с точки зрения типа выражаемых ими грамматических значений и средств их языкового оформления. Особая заслуга в разработке теории сочинения и подчинения принадлежит видному представителю формально-грамматической школы – А. М. Пешковскому [2].
В освященную более чем двухвековой традицией типологию синтаксических отношений вполне укладывается, с большими или меньшими допущениями и оговорками [3], все разнообразие межкомпонентных (между членами предложения и разными предикативными единицами выявляющихся) связей. Эта же универсальная классификация используется в трудах по исторической грамматике, описывающих магистральное направление в развитии синтаксической системы русского языка в направлении от начала письменного периода к современности – тенденцию к углублению гипотаксического строя [4].
Между тем еще одно важнейшее направление эволюции русской грамматической системы – рост элементов аналитизма – привело к возникновению, количественному и качественному росту конструкций, формирующих иной, по отношению к линейной цепочке главных и второстепенных членов дополнительный, уровень синтаксических отношений в рамках т. н. «осложнения» формальной, коммуникативной и семантической структур предложения. Участвующие в осложнении элементарной предикативной единицы синтагмы характеризуются особыми, не включаемыми в традиционные схемы, видами синтаксических связей.
Однако все неоднократно предпринимавшиеся исследователями второй половины ХХ века попытки выявить и описать подобные отклоняющиеся от устоявшейся классификации типы грамматических связей вызывали оживленные споры на страницах научной печати, в результате которых лингвистам так и не уда- лось прийти к «единому знаменателю» в отношении как терминологии, предлагавшейся для наименования ставших предметом дискуссии связей, так и их характера и средств выражения.
Например, предложенный В. В. Виноградовым для описания обособленных оборотов термин «полупредикативность» [5] неоднократно вызывал нарекания со стороны приверженцев общепринятой классификации грамматических отношений, несмотря на то что на виноградовскую трактовку «полупредикативности» оказали заметное влияние идеи, высказывавшиеся классиками отечественного языкознания (теория «аппозиции» А. А. Потебни [6], а также ее развитие в трудах Д. Н. ОвсяникоКуликовского [7] и А. А. Шахматова [8], выделявших «предицирующие», или «предикативноатрибутивные», члены предложения). Так, высказывались суждения, что «полупредикативность» – теоретическая фикция, поскольку «в грамматическом плане не существует никакой «вторичной» или «второстепенной» сказуемости» [9], что «полупредикативность в прямом смысле слова невозможна ни в мысли, ни в языке» [10], что обособление – только средство оформления синтаксической связи, заключающееся в использовании интонационных средств, а не такая новая разновидность грамматической связи, которая не являлась бы подобной по своему языковому воплощению подчинительной цепочке [11]. Сторонники же виноградовской концепции полупредика-тивных отношений [12], связанных с появлением у обособленной синтаксемы таксисных, зависимых от основной предикации категорий модальности, времени и лица, предложив целый ряд терминов-синонимов («свернутая», «вторичная», «имплицитная» предикативность»), не пришли к единству по вопросу о границах и самой синтаксической сущности данного феномена, так что «полупредикативность» до сих пор остается загадкой, «камнем преткновения» грамматической теории.
Получает разноречивое истолкование и вопрос о грамматической сущности пояснительной связи. Пояснение рассматривается:
-
• как разновидность сочинительной связи (традиционно, при описании однородных рядов или сложносочиненных предложений);
-
• как подвид подчинения [13];
-
• как тип связи, занимающий промежуточное положение на шкале переходности между сочинением и подчинением [14];
-
• как особый вид связи предложенческого уровня [15] (при этом иногда пояснение «переименовывают» в «аппликацию» [16] или «подключение» [17]).
Наконец, некоторые исследователи усматривают в пояснении «не особый тип связи, который может быть противопоставлен подчинению и сочинению», а только «особое синтаксическое значение» [18].
С середины прошлого столетия появляются описания еще одного не фигурирующего в традиционной типологии вида связи – присоединения. На материале простого и сложного предложений, на текстовом уровне (в т. ч. при анализе явления парцелляции) лингвисты пытаются выявить отличия присоединительной связи от сочинительной и подчинительной [19], описывая специфические ее показатели (союзы, частицы, вводные элементы), особый ритмомелодический рисунок, порядок расположения и семантическое своеобразие присоединения.
Другие синтаксисты (например, Ю. Ванников) отрицают особый статус присоединительной связи на том основании, что не существует специальных ее показателей, которые бы отграничивали присоединение от сочинения или подчинения. С этой точки зрения, присоединение – это не тип связи, а грамматическое отношение (значение) [20].
Традиционный взгляд на такие типы синтагм, как вводные и вставные конструкции, обращения, согласно которому эти осложнители элементарной модели относят к элементам, грамматически не связанным с предложением, все чаще подвергается сомнению в работах последних десятилетий. При этом исследователи указывают, что связь обращений и парантез с содержащим их предложением не укладывается в жесткие рамки привычных классификаций, а носит функционально-семантический характер. Подобная связь получает различные именования: «соотношение» [21], «включение» [22], «интродуктивная» [23], «ординативная» [24]. Высказывалось также мнение, что обращения и вводные слова являются особыми членами предложения [25], поскольку связаны с основным его составом.
Представленные в научной литературе различные толкования синтаксических связей, не укладывающихся в «прокрустово ложе» традиционной типологии, не только нуждаются в некотором обобщении, но и, на наш взгляд, поддаются систематизации, которая позволила бы выявить целый ряд особенностей, отличающих эти связи от сочинения и подчинения.
Возникновение отклоняющихся от бинарной оппозиции связей обусловлено, с одной стороны, объективными, с другой – субъективными факторами. Объективной причиной формирования подобных связей явился углублявшийся в направлении от XVIII века к современности процесс роста элементов аналитизма в грамматическом строе русского литературного языка, что сделало возможным появление конструкций, демонстрирующих явление синтаксической неподчинимости, автономности и нарушение, разрыв синтагматической цепочки словоформ – членов предложения. Обращение еще в древнерусский период утратило форму косвенного (звательного) падежа, сменив ее на позиционно независимую, прямую – но- минативную. Вводные синтагмы сформировались на основе потерявших подчиняющую силу главных частей сложных предложений с придаточным изъяснительным или лишившихся сказуемостного подчинения модальных по значению обстоятельств. В истории демонстрирующих формально выраженную зависимость от определяемого слова обособленных оборотов был достаточно продолжительный этап (середина XVIII – XIX ст.) т. н. «абсолютного» их употребления, вероятно, прежде всего под влиянием аналитического французского синтаксиса (хотя данная трактовка истоков несогласованных с определяемым словом оборотов и не является единственно приемлемой, по мнению ряда исследователей). Вставка и «именительный темы» своим происхождением обязаны разговорному субстрату – переби-вам спонтанного речевого потока.
К субъективным факторам формирования осложняющих элементарную модель явлений и связей относится интенция говорящего, его стремление актуализировать какой-либо отрезок текста, нарушить линейную предсказуемость компонентов высказывания, вывести восприятие адресата из автоматического режима ожидания привычных зависимостей, диало-гизировать контекст с целью воздействия на собеседника, а также авторизовать его, высказав собственную оценку факта, и оптимизировать сам процесс коммуникации (например, введением добавочных пояснений, замечаний). Не случайно формирование многих типов актуализаторов тесно связано с жанрами художественной литературы [26] и ростом индивидуально-авторского начала. Так, известные еще древнерусскому синтаксису пояснение и присоединение существенно расширили сферу своего распространения (выйдя за рамки сложных конструкций в область простого предложения) и обогатились многообразными (не только союзными, но и бессоюзными) способами выражения именно как средства экспрессивного синтаксиса в новой литературе, начиная с эпохи Карамзина и Пушкина.
Еще одна причина появления грамматических явлений, демонстрирующих отклонение от обычной схемы предложения, – стремление к речевой экономии, созданию синтаксических «конденсаторов» смысла.
Отличающиеся от традиционной бинарной оппозиции связи формируются, в отличие от подчинения, только на уровне предложения, коммуникативно (рематически) и семантически (пропозитивно) осложненного. Подобные связи оказываются не одинарными, а двунаправленными или демонстрирующими смысловую соотнесенность со всем высказыванием в целом: Усталые, мы решили остановиться на ночлег; Вопреки предсказаниям синоптиков, дождь прекратился и выглянуло солнце; Завтра, в семь часов, начнется концерт хора.
Важнейшим средством выражения связей осложнителей предложения является интонация, специфический для каждой из актуализованных синтагм ритмомелодический рисунок. В качестве иных, косвенных, показателей связи выступают те формально-коммуникативные ограничения, которые накладываются осложнителем на содержащее его высказывание. Так, обращение регулярно используется в конструкциях со сказуемым в форме 2-го лица. «Именительный темы» (сегмент) также требует соответствующего морфологического облика главных членов и сужения парадигмы предложения до 3-го синтаксического лица индикатива или конъюнктива. Вводные конструкции разных семантических разрядов включаются в высказывания определенной целеустановки. В оформлении связанности парантез с основной частью высказывания важную роль играют таксисные отношения между сказуемым и глаголом, содержащимся во вставке. Пояснительные, присоединительные и сравнительные конструкции оформляются с помощью служебных слов, т. е. их связь – регулярно или нерегулярно – носит формально выраженный характер, как и связь обособленных полупредикативных оборотов.
Связи осложнителей, формируя второй уровень синтаксической иерархии, надстройку над первичной линейной цепочкой словоформ, тесно взаимодействуют с основной предикацией, поскольку выражают дополнительную предикативную характеристику, категории таксиса, модальности, персональности. Доказательством предикативной нагруженности служит возможность трансформации осложнителя в самостоятельную предикативную единицу (часть сложного предложения, нечленимое, вокативное предложения, элемент текста – в случае сегментации или парцелляции).
Отличающиеся от традиционной дихотомии связи сопровождают формально факультативные, не предусмотренные обязательным конструктивным минимумом, компоненты, но их важная функционально-семантическая роль в передаче информации от говорящего адресату предопределяет невозможность их элиминации из высказывания без разрушения коммуникативной стратегии.
Таким образом, традиционная классификация формально выраженных отношений и связей, позволяющая с успехом осуществить структурный анализ предложения, демонстрирует свою недостаточность при описании коммуникативно-семантически осложненной и иерархически многоплановой предикативной единицы, а также некоторых явлений на уровне текстовой системы. Кроме того, исключение отклоняющихся от бинарного деления связей из лингвистического дискурса препятствует выявлению всего спектра синтаксических процессов и явлений в истории грамматического строя языка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Термины "сочинение", "подчинение", "согласование" и "управление" использовались уже в грамматиках XVII–XIX вв., понятие же "примыкания" ввел в лингвистический обиход, по-видимому, Д. Н. Овсянико-Куликовский в своем "Синтаксисе русского языка" (1912 г.).
-
2. Пешковский А . М . Существует ли в русском языке сочинение и подчинение предложений? // Пешковский А. М. Избр. труды. М., 1959. С. 131–146.
-
3. Так, в работах грамматистов середины – второй половины ХХ в. описываются такие разновидности предикативной связи, как координация, соположение (академическая "Русская грамматика" 1980 г.), тяготение (Л. А. Булаховский), условное и смысловое согласование; Н. Ю. Шведова использует особый термин "свободное присоединение" для характеристики связи детерминантов с предложением в целом.
-
4. История синтаксического строя русского языка как общий процесс перехода от паратаксиса к гипотаксису впервые получила истолкование в труде А. А. Потебни "Из записок по русской грамматике" (Т. 1–2. Харьков, 1889). Среди работ современных историков синтаксиса, посвященных изучению системных закономерностей грамматического строя заслуживает особого внимания работа: Тарланов З. К. Становление типологии русского предложения в его отношении к этнопсихологии. Петрозаводск, 1999. 207 с.
-
5. Термин "полупредикативная единица" встречается впервые в книге В. В. Виноградова "Русский язык (Грамматическое учение о слове)" (1947 г.). См. также: Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения // Виноградов В. В. Избр. труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 280.
-
6. Потебня А . А . Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М., 1958. С. 109.
-
7. Овсянико- Куликовский Д . Н . Синтаксис русского языка. СПб., 1912. С. 64.
-
8. Шахматов А . А . Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 291.
-
9. Адмони В . Г . Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. С. 63.
-
10. Богданов П . Д . Обособленные члены предложения в современном русском языке. Орджоникидзе, 1977. С. 80.
-
11. Колшанский Г . В . Грамматическая функция обособления членов предложения // Филол. науки. 1962. № 1. С. 41.
-
12. См., напр.: Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 220 и след.
-
13. Шатух М . Г . Уточняющие члены предложения в современном русском языке // Вопросы русского языкознания. Кн. 2. Львов, 1956. С. 31; Дмитриева Л. К. Семантика уточнения // Языковые значения. Л., 1976. С. 124.
-
14. При этом подчеркивается, что пояснение жестко не укладывается в границы ни подчинения, ни сочинения, но объединяет признаки того и другого (так, признаки сочинения – сугубо интерпозитивное положение союза, однофункциональность поясняющего и поясняемого, одинаковая, параллельная отнесенность к общему для них третьему компоненту; признаки подчинения – факультативность, вторичность поясняющего, строго фиксированный порядок следования его за поясняемым и закрытость конструкции). См. подробнее: Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. М., 1990. 176 с.
-
15. Маркелова Г . В . Развитие средств авторизации в синтаксической системе русскогоя языка: история пояснительных конструкций: семантический и функциональный аспекты. Тверь, 1994. С. 3–4.
-
16. Распопов И . П . К вопросу об обособлении // Русский язык в школе. 1967. № 4. С. 105.
-
17. Перетрухин В . Н . Расширение, распространение и осложнение в простом предложении // Филол. науки. 1979. № 4. С. 48.
-
18. Чеснокова Л . Д . Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 78.
-
19. Крючков С . Е . О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950. С. 397–411; Прияткина А. Ф. О взаимном отношении видов синтаксической связи // Учен. зап. ДВГУ. Т. 11. Владивосток, 1968. С. 41.
-
20. В анников Ю . В . Существует ли присоединительная связь предложений? // Тр. Ун-та Дружбы народов. Т. 8. Вып. 2. М., 1965. С. 163–183.
-
21. Руднев А . Г . Синтаксис осложненного предложения. М., 1959. С. 22; Дмитриева Л. К. Обращение и вводный компонент. Л., 1976. С. 4.
-
22. Кротевич Е . В . О связях вводных слов в словосочетаниях и предложениях // Русский язык в школе. 1958. № 6. С. 25; Баудер А. Я. Части речи – структурно-семантические классы слов в современном русском языке. Таллин, 1982. С. 119.
-
23. Мухин А . И . Структура предложений и их модели. Л., 1968. С. 89.
-
24. Студнева А . И . О связи вводных предложений с основным составом высказывания // Учен. зап. Рязанского гос. пед. ин-та. Т. 51. Рязань, 1968. С. 307.
-
25. Кротевич Е . В . Члены предложения в современном русском языке. Львов, 1954. С. 22; Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945. С. 186 и след.; Руднев А. Г. Указ соч. С. 122–123, 179–180; Печников А. Н. К вопросу о смысловых и грамматических связях обращения в предложении // Учен. зап. Куйбышевского гос. пед. инта. Вып. 40. Куйбышев, 1963. С. 92.
-
26. См.: Патроева Н. В. Поэтический синтаксис: категория осложнения. Петрозаводск, 2002. 334 с.
Понятие "полупредикативный член" использовал ранее А. М. Пешковский, но вкладывал в него совершенно иной смысл (Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. С. 249).
Список литературы Проблемы типологии синтаксических связей
- Пешковский А. М. Существует ли в русском языке сочинение и подчинение предложений?//Пешковский А. М. Избр. труды. М., 1959. С. 131-146.
- Тарланов З. К. Становление типологии русского предложения в его отношении к этнопсихологии. Петрозаводск, 1999. 207 с.
- Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения//Виноградов В. В. Избр. труды: Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 280.
- Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. С. 249
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. М., 1958. С. 109.
- Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. СПб., 1912. С. 64.
- Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 291.
- Адмони В. Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. С. 63.
- Богданов П. Д. Обособленные члены предложения в современном русском языке. Орджоникидзе, 1977. С. 80.
- Колшанский Г. В.Грамматическая функция обособления членов предложения//Филол. науки. 1962. № 1. С. 41.
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 220
- Шатух М. Г. Уточняющие члены предложения в современном русском языке//Вопросы русского языкознания. Кн. 2. Львов, 1956. С. 31
- Дмитриева Л. К. Семантика уточнения//Языковые значения. Л., 1976. С. 124.
- Прияткина А. Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. М., 1990. 176 с.
- Маркелова Г. В. Развитие средств авторизации в синтаксической системе русскогоя языка: история пояснительных конструкций: семантический и функциональный аспекты. Тверь, 1994. С. 3-4.
- Распопов И. П.К вопросу об обособлении//Русский язык в школе. 1967. № 4. С. 105.
- Перетрухин В. Н.Расширение, распространение и осложнение в простом предложении//Филол. науки. 1979. № 4. С. 48.
- Чеснокова Л. Д. Связи слов в современном русском языке. М., 1980. С. 78.
- Крючков С. Е.О присоединительных связях в современном русском языке//Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950. С. 397-411
- Прияткина А. Ф. О взаимном отношении видов синтаксической связи//Учен. зап. ДВГУ. Т. 11. Владивосток, 1968. С. 41.
- Ванников Ю. В. Существует ли присоединительная связь предложений?//Тр. Ун-та Дружбы народов. Т. 8. Вып. 2. М., 1965. С. 163-183.
- Руднев А. Г. Синтаксис осложненного предложения. М., 1959. С. 22
- Дмитриева Л. К. Обращение и вводный компонент. Л., 1976. С. 4.
- Кротевич Е. В.О связях вводных слов в словосочетаниях и предложениях//Русский язык в школе. 1958. № 6. С. 25
- Баудер А. Я. Части речи -структурно-семантические классы слов в современном русском языке. Таллин, 1982. С. 119.
- Мухин А. И.Структура предложений и их модели. Л., 1968. С. 89.
- Студнева А. И. О связи вводных предложений с основным составом высказывания//Учен. зап. Рязанского гос. пед. ин-та. Т. 51. Рязань, 1968. С. 307.
- Кротевич Е. В. Члены предложения в современном русском языке. Львов, 1954. С. 22
- Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. М.; Л., 1945. С. 186 и след.
- Руднев А. Г. Указ соч. С. 122-123, 179-180
- Печников А. Н. К вопросу о смысловых и грамматических связях обращения в предложении//Учен. зап. Куйбышевского гос. пед. инта. Вып. 40. Куйбышев, 1963. С. 92.
- Патроева Н. В. Поэтический синтаксис: категория осложнения. Петрозаводск, 2002. 334 с.