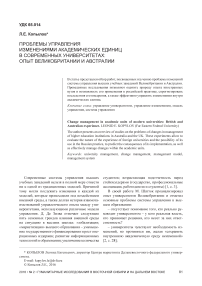Проблемы управления изменениями академических единиц в современных университетах: опыт Великобритании и Австралии
Автор: Копылов Л.Е.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философия изменений современных университетов
Статья в выпуске: 2 (36), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен обзор работ, посвященных изучению проблемы изменений системы управления высших учебных заведений Великобритании и Австралии. Проведенные исследования позволяют оценить природу опыта иностранных вузов и возможность его применения в российской практике, спрогнозировать последствия его внедрения, а также эффективно управлять изменениями внутри академических единиц.
Управление университетом, управление изменениями, модель управления, система управления
Короткий адрес: https://sciup.org/170175650
IDR: 170175650 | УДК: 65.014
Текст научной статьи Проблемы управления изменениями академических единиц в современных университетах: опыт Великобритании и Австралии
Современные системы управления высших учебных заведений нельзя в полной мере отнести ни к одной из традиционных моделей. Причиной тому могли послужить изменения в каждой из моделей, которые происходили под воздействием внешней среды, а также долгая история взаимоза-имствований управленческого опыта между университетами, использующими различные модели управления. Д. Де Зилва отмечает следующие пять основных трендов влияния внешней среды на ситуацию в высших школах: глобализация; «маркетизация» высшего образования – уменьшение государственного финансирования и рост операционных издержек; развитие информационных технологий в образовании; увеличение количества студентов; возрастающая подотчетность перед стейкхолдерами (государство, профессиональные ассоциации, работодатели и студенты) [1, c. 3].
В своей работе М. Шатток проанализировал опыт университетов Великобритании и отметил основные проблемы системы управления в высшем образовании:
– отсутствует понимание того, кто реально руководит университетом – у кого реальная власть, кто принимает решения, кто несет за них ответственность?
– университеты чувствуют необходимость изменений, но противятся им, желая «сохранить внутреннюю академическую среду неизменной» [2, c. 28];
* КОПЫЛОВ Леонид Евгеньевич, директор Центра маркетинга Дальневосточного федерального университета.
– даже в самых успешных университетах система управления настолько запутана, что и топ-менеджеры этих университетов не могут объяснить, как она работает [2, с. 28].
Исследователи отмечают, что современная «смешанная» модель управления университетами начала активно формироваться в начале 1990-х гг. Главным мотивом перемен стало осознание того факта, что коллегиальные органы управления менее эффективны, чем отдельные управленческие должности. Негативными последствиями перемен такого рода стала потеря связи персонала (особенно преподавателей) с управлением и меньшая вовлеченность сотрудников в управление учебным заведением. Особенно остро это переживал преподавательский состав тех университетов, где активное участие академического сообщества в управлении было предусмотрено.
Важнейшее влияние на изменение систем управления университетов Великобритании оказало государство. До 1945 г. государство практически не участвовало в создании университетов, университеты были частными, но при этом учредители не имели на них никаких прав. Появляющиеся с начала 1960-х гг. университеты были основаны преимущественно правительством Великобритании. К концу XX в. власти осознали важность высшего образования для обеспечения экономической и социальной устойчивости и направили больше усилий на развитие и контроль высшего образования [2, c. 34].
Что касается университетов Австралии, то, как отмечает Д. Де Зилва, с 1970 г. по 1989 г. они получали почти 90% всех доходов из государственного бюджета и находились в стабильной финансовой ситуации, фокусируясь на обучении, исследованиях и пр. [1, c. 6-9]. В 1989 г. австралийское правительство перенесло существенную часть финансирования на плечи студентов, введя т.н. Higher Education Contribution Scheme (HECS) – систему оплаты обучения, действующую для граждан Австралии. При поступлении в университет абитуриент может выбрать: или заплатить за обучение самостоятельно и сразу (и при этом существенно сэкономить), или учиться «в долг» – образование оплачивается государством, но после выпуска из университета, как только зарплата выпускника достигает определенного уровня, всю стоимость образования выпускник обязан выплачивать в виде дополнительного налога [1, c. 6-9].
К 2002 г. финансирование австралийских университетов состояло на 45% из государственного обеспечения, 37% – из средств студентов (прямы- ми платежами или посредством HECS) и 18% – из доходов от консультаций, контрактов на исследования, инвестиционного и прочего дохода [1, c. 6-9].
Парадокс государственного влияния на университеты Британского Содружества заключается в том, что университеты тем более независимы от государства, чем больше государство направляет усилий на их развитие. Объяснение парадокса заключается в том, что государство не финансирует университеты напрямую, а влияет через строгую отчетность и конкурентные рыночные заказы [2, c. 37]. Влияние правительства осуществляется посредством трех инструментов – «финансовый меморандум», институциональное управление и институциональные аудиты. Финансовый меморандум, фиксирующий финансовые отношения государства и университетов, во-первых, определяет ответственность исполнительного директора за получаемые от государства средства, во-вторых, предусматривает создание в университете органа, управляющего полученными средствами, в-третьих, предусматривает в качестве обязательного требования введение в штат проректора, контролирующего требования финансового меморандума. Таким образом, финансовый меморандум направлен на формирование в университетах прозрачной системы управления средствами и «системы сигналов» для контроля их расходования [2, c. 32]. Руководство университета должно иметь стратегию развития университета, согласованную с финансовыми советами государства. М. Шатток отмечает, что такой подход удивляет: «насколько уверенно можно утверждать, что финансовый комитет государства может качественно оценить стратегию университета и что этот контроль не убивает «новый подход» к развитию?» В результате, сегодня «шаблонность» государственного финансирования переносится на стратегическое развитие и управленцы в университетах Великобритании имеют наименьшую «стратегическую гибкость», чем многие века до этого [2, c. 37].
Под влиянием внешних факторов классические корпоративные и академические модели управления существенно изменялись на протяжении 1990-х – 2000-х гг. Университеты, работающие в корпоративной модели управления, пошли по пути копирования опыта из бизнеса – начали создаваться советы директоров и ставки CEO, для того чтобы избежать ситуации единоличного управления университетом. При этом руководители университетов, использующие такую модель управления, отмечают, что универсального рецепта нет [2, c. 41].
Проблема академической модели управления заключалась в том, что большая часть усилий была направленна на стимулирование кафедр с целью заставить их договориться между собой добровольно и подготовить предложение, способное без конфликтов пройти утверждение Совета. Однако сокращение государственного финансирования в сочетании с подобным подходом стало благодатной почвой для возникновения внутренней борьбы за ресурсы. С другой стороны в Университете Сэлфорда данный подход позволил наиболее быстро и эффективно донести до всех сотрудников необходимость перемен и принятия непопулярных решений – Совет без особого сопротивления принял решения, которые очень болезненно били в том числе и по самим членам Совета [2, c. 61]. Вторая проблема академической системы управления – это возросшее государственное влияние, которое привело к усилению управленческого ядра даже в самых «академических» университетах (через проректоров и профильных менеджеров по финансам, персоналу, маркетингу и т.д.) [2, c. 64]. В связи с тем, что ответственность за распределение бюджета лежит на «управленческом ядре», изменился и формат отношений факультетов и «центра»: де-факто управление перешло административно-управленческому персоналу, чей функционал прежде являлся исключительно исполнительным. М. Шатток отмечает, что задача управленцев в этой ситуации – не праздновать «победу», которая досталась благодаря новым бюрократическим механизмам, а найти путь, который позволит академическому сообществу не потерять чувства вовлеченности в принятие решений. Большую помощь в этом может оказать сохранение Ученого совета (не только в формальном виде). В противном случае сопротивление академического сообщества изменениям видится единственной возможной реакцией на предложения управленцев.
Отдельно отмечается важность студенческой роли в управлении. В современной модели степень влияния студентов на управление возрастает, во-первых, за счёт «маркетизации» образования, во-вторых, за счёт включения оценки удовлетворенности студентов и мнений выпускников в различные рейтинги университетов. Опыт, приведенный в работе М. Шаттока, показал, что включение представителей студентов и выпускников в управление университетом положительно сказывается на их оценках учебного заведения.
Можно сформулировать следующие ключевые особенности современной смешанной системы управления высших учебных заведений:
– высокий спрос на четкость структуры управления и разделения полномочий и ответственности;
– необходимость конкретного (персонального) распределения ответственности за достижение целей и эффективность расходования ресурсов против общепринятого ранее размывания ответственности по комитетам и советам;
– важность вовлечения преподавательского состава в принятие ключевых решений, выстраивания горизонтальной коммуникации административно-управленческого персонала с факультетами (школами) даже в том случае, когда формально или неформально факультеты (школы) находятся на управленческую ступень ниже;
– неоднозначность ситуации сосредоточения власти в одних руках лидера. Высокий соблазн первого лица университета принять на себя персонально всю ответственность за достижение целей и расходование ресурсов может привести к краткосрочному росту эффективности управления, но к проигрышной долгосрочной стратегии по причине низкой вовлеченности и, в результате чего, инертности академической среды;
– высокая важность внутреннего и внешнего аудита (реального, а не формального);
– важность обеспечения управления ключевыми процессами, происходящими в университете (разработка, экспертиза, согласование, утверждение, назначение ответственных, выделение ресурсов, мониторинг, контроль и аудит);
– управление академическими ресурсами должно быть в равной мере согласованно с управлением финансовыми ресурсами. Необходимо даже в моделях управления гражданским университетом или корпоративным включать в планирование ресурсов академическую среду, а не спускать директивно планы, не обеспеченные ресурсами.
Д. Де Зилва в своей работе описывает ситуацию перемен, в которой оказались австралийские университеты в 2000-х гг., что было вызвано изменениями политики в системе высшего образования Британского Содружества, отмеченными ранее. Неожиданно для многих вузов произошла расфокусировка в части «заказчиков» и рыночных целей (спрос какого заказчика удовлетворять). Перемены обозначили ключевые рыночные вызовы, стоящие перед университетами: удовлетворение спроса студентов; удовлетворение спроса рыночных заказчиков исследований; удовлетворение спроса государства в перераспределении источников финансирования [1, c. 8].
Де Зилва отмечает в своей работе, что академическая среда исследуемых университетов характеризовались разной поведенческой моделью при реагировании на меняющиеся внешние условия.
Автор выделил 4 поведенческих типа академических единиц в ситуации изменений.
-
1. Оборонительный тип (Defenders). Подразделения оборонительного типа «дают изменениям случиться, а потом решают, как с этими изменениями жить». Оборонительные подразделения не нацелены на внешнюю среду, на поиск новых рынков, на создание новых конкурентных преимуществ для новых типов аудитории. Они сфокусированы на повышении собственной эффективности и устойчивости к изменениям. Решения проблем ищут в собственном опыте, традиционных системах управления и уже неоднократно примененных управленческих решениях [1, c. 33].
-
2. Старатели / Сторонники (Prospectors). Полная противоположность единицам оборонительного типа. Сторонники включаются в изменения с головой, сосредоточенны на поиске всего нового, ключевой приоритет для них – инновационность. Сотрудникам комфортно в «турбулентном» режиме изменений. Типичная позиция подразделения-сторонника – не следовать изменениям, а бежать впереди них и влиять на русло перемен [1, c. 34]. Главный принцип работы «старателей» – никакой формальности, бюрократии, долгих принятий решений. Де Зилва приводит пример университета, в котором у сотрудников не было адресов электронной почты, так как туда «нечего было отправлять». Все решения принимались коллегиально и сразу выполнялись. Общая проблема «старателей» – отсутствие достаточного количества академических сотрудников, с достаточным опытом работы в науке и образовании.
-
3. Аналитики (Analysers). Аналитики – это гибрид оборонительного и стороннического типов. Комбинирование оборонительного и новаторского типа адаптации заключается в том, что подразделения фокусируются на существующем рынке и, как и оборонительные, стремятся обеспечить себе максимальную устойчивость на данном рынке, но при этом анализируют конкурентов и внешнюю среду, выискивая наиболее удачные решения, про-
- дукты, аудитории для того, чтобы внедрить в работу [1, c. 35].
-
4. «Реакторы» (Reactors). Если каждый из перечисленных выше типов опирается в своей работе на какую-то определенную модель поведения, следует определенной тактике (сопротивляется изменениям, пытается их «возглавить» или избирательно впускает изменения в свою работу), то реакторы «мечутся» от одного типа поведения к другому, пытаясь среагировать на внешние сигналы. Автор отмечает, что такой тип адаптации к изменениям, как правило, возникает в трех случаях:
Д. Де Зилва отмечает, что эта модель поведения наиболее популярна, так как сопротивление изменениям – естественная и базовая реакция на любые изменения внешней среды. Университеты выбирают защитную форму адаптации в первую очередь из-за доминирующей роли академического сообщества. Вторая причина – нежелание (неспособность) управленцев заставлять преподавательский состав работать по-новому или как-то отлично от того, как работают они или работают в их регионе [1, c. 57].
-
– руководство не может сформулировать чёткую стратегию;
– руководство сформулировало чёткую стратегию, но не имеет ни ресурсов, ни технологий, ни видения как её реализовать;
– руководство сформулировало стратегию, имеет ресурсы для её реализации, и пытается следовать ей изо всех сил, несмотря на то, что внешняя среда уже существенно изменилась и существующие стратегии неактуальны [1, c. 36].
Важно отметить, что разные поведенческие типы подразделений, по мнению автора, встречаются в структуре одного университета, что может говорить о низкой степени зависимости типа адаптации от руководства университета, а в большей степени о зависимости от сложившихся традиций в подразделении и качества внутренних коммуникаций со школой.
Де Зилва также выделяет особенности процесса адаптации, так или иначе влияющие на выбор типа поведения:
– нетипичное взаимодействие между внутренней и внешней академической средой. Прежде всего речь идет о выходе на конкурентные рынки, о конкуренции за потребителей, за которых преподаватели не привыкли конкурировать. Повышенные требования к действиям, которые преподаватели не привыкли предпринимать;
– неоднородное восприятие внешней среды. «Обороняющиеся» подразделения воспринимают изменения как угрозы их стабильности и «стату-су-кво». «Старатели», напротив, воспринимают как возможности для роста, получения новых рынков и готовы принимать на себя риски по развитию подразделения внутри меняющейся среды;
– разница в мотивах. Найти равновесие или дисбаланс с окружающей средой – «защитный» мотив, мотив же «сторонников» агрессивный – перетянуть одеяло на себя;
– вопрос времени. Сопротивление, в любом случае, не может длиться вечно – сопротивление будет длиться, пока у защищающейся стороны есть ресурс (денежный, репутационный, политический), пока внешние изменения кажутся выбивающимися из нормы. Рано или поздно изменения внешней среды будут признаны внутри университета, и сопротивление исчезнет естественным образом, но может быть уже слишком поздно, так как ресурсы потрачены на борьбу.
Де Зилва также вводит понятие «готовность к адаптации» (adaptive capacity). Во время перемен университет взаимодействует с большим количеством стейкхолдеров – с государственным и отраслевым менеджментом, следящим за эффективностью расходования ресурсов, с потребителями, требующими роста качества услуги, на которые необходимо тратить ресурсы, с региональными и глобальными бенефициарами, требующими результата от деятельности университета, например, для экономики региона и т.д. Каждый из стейкхолдеров имеет свою повестку и нормативное регулирование процесса [1, c. 121]. Готовность к адаптации – это своего рода иммунитет, устойчивость к давлению внешней среды во время адаптации. Де Зилва в совей работе дает следующие рекомендации по повышению «готовности к адаптации».
– внедрение в работу подхода, который автор называет «теорией комплексной системы адаптации» (complex adaptive systems). Данный подход позволяет вовлекать в изменение всю внутреннюю среду, при этом распределяя внешнее давление на всю систему, а не на каждую академическую единицу в отдельности. Подход заключается в создании нелинейной системы управления. Структура университета имеет два уровня – внешний, на котором он воспринимается как единая структура, и внутренний, который строится на нелинейных, динамичных взаимоотношениях между подразделениями. Плюсы данного подхода состоят в вовлечении в изменение всех единиц, делегировании ответственности и самостоятельности, а также невозможности управления по вертикали власти в периоды перехода изменений в турбулентную форму;
– развитие понимания происходящих процессов, развитие стратегического мышления и погружение персонала в контекст стратегического позиционирования университета;
– поддержка тех подразделений, которые готовы меняться, поощрение риска, предпринимательства и инновации, создание дисбаланса для преодоления сопротивления;
– использование инструментов самоорганизации команд, внедрение коллегиальных подходов при принятии решений;
– работа над долгосрочным формированием культуры академических единиц и формированием ценностей;
– делегирование лидерства командам, передача принятия решений и ответственности за них на уровень подразделений.
Список литературы Проблемы управления изменениями академических единиц в современных университетах: опыт Великобритании и Австралии
- De Zilwa, D., 2010. Academic units in a complex, changing world. New York: Springer.
- Shattock, M., 2006. Managing good governance in higher education. New York: Open Education Press.