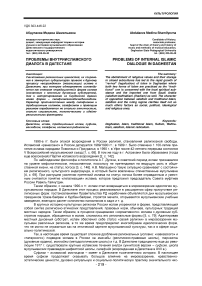Проблемы внутриисламского диалога в Дагестане
Автор: Абдулаева Медина Шамильевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Уничтожение религиозных ценностей, их сохранение в замкнутых субкультурах привело к бурному процессу «возрождения» (легализации) ислама в Дагестане, при котором одновременно исповедуются как ставшая «традиционной» форма ислама (связанного с местным духовным субстратом), так и импортированная из Саудовской Аравии новая форма - салафизм/ваххабизм/джихадизм. Характер противостояния между салафизмом и традиционным исламом, салафизмом и правящим режимом определяется не столько этничностью, сколько социальными, политическими и идейнорелигиозными факторами.
Дагестан, ислам, традиционный ислам, суфизм, ваххабизм, салафизм, исламский радикализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14934106
IDR: 14934106 | УДК: 303.446.22
Текст научной статьи Проблемы внутриисламского диалога в Дагестане
1990-е гг. были эпохой возрождения в России религий, становления религиозной свободы. Исламский «ренессанс» в России датируется 1989/1990 гг.: в 1989 г. было отмечено 1 100-летие принятия ислама народами Поволжья и Приуралья, в 1990 г. в Уфе после 42-летнего перерыва состоялся V Всероссийский мусульманский съезд [1, с. 68]. В том же году в г. Астрахани была образована (тогда еще всесоюзная) Партия исламского возрождения [2, с. 142].
По наблюдениям философа и политолога А.Г. Дугина, в советский период ислам признавался на уровне мифологическом, неосознанном, поскольку не претендовал на ведущую роль в общественной жизни, на статус логоса [3, с. 146]. А.В. Малашенко такую ситуацию сравнивает с состоянием религиозного, культурного андеграунда, в который были вовлечены отечественные мусульмане [4, с. 69]. При растущем усилении претензий ислама на статус логоса более оправданным и уместным считается понятие «легализация» ислама, которое предложил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Таким образом, с начала 1990-х гг. ислам стал возвращаться в мировоззрение идеологию мусульманских народов. В Дагестане этот процесс реализовался в расширении сфер присутствия религиозных форм: постановлениями Правительства РД нерабочими объявляются дни мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, строятся мечети, открываются мусульманские учебные заведения, ежегодно растет количество паломников в хадж и т. д.
В крупных историко-культурных регионах России ислам укоренился в форме, представляющей собой синтез религиозно-этических представлений, правовых норм, обычаев, культурных традиций местных народов. Таким образом, в процессе сращивания «нормативного» ислама с духовным субстратом народов, обращенных в ислам, сложились его региональные формы [5, с. 79]. Адаптировав местный духовный субстрат, ислам обеспечил себе статус «своей религии» в мировоззрении мусульман различных регионов, в то же время предопределил многообразие идеологических форм, что не могло не отразиться как на этнической картине мусульманской культуры, так и в сфере социально-политической.
Так, в настоящее время существует сложное дробление региональных (условно: «кавказского» и «татарского») подвидов ислама в России на мазхабы (религиозно-правовые школы), тарикаты (духовные ордена), манхаджи (методологические школы) и т.д. В Дагестане традиционно еще до революции 1917 г. существовали крупные исламские течения внутри суннитской версии – суфизм , школа мусульманских правоведов шафиитской школы, салафийя (возрожденная в Дагестане в XVII в.).
Суфизм – исламский мистицизм – имеет в Дагестане тысячелетнюю историю. В настоящее время суфизм продолжает оказывать большое влияние на мировоззрение, нравственноэстетические ценности, духовно-ритуальную и социально-политическую практику значительного чис- 219 - ла дагестанцев. Происходит не только популяризация теоретического наследия суфийских тарика-тов, но и значительное практическое расширение влияния суфизма в республике.
В современном Дагестане представлены братства трех направлений суфизма – накшбандий-ского, шазилийского и кадирийского тарикатов. По национальному составу накшбандийский тарикат в основном исповедуют аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы, рутулы. Кадирий-ский тарикат исповедуют чеченцы, андийцы. Шазилийский тарикат распространен среди аварцев и в меньшей степени среди кумыков и даргинцев [6, с. 114].
Между кадырийским, накшбандийским и шазилийским тарикатами нет принципиальных расхождений на почве религии. Их роднит, по определению А.В. Малашенко, «политическая устремленность»: «Разница в том, что в Дагестане тарикатские шейхи обладают свободой действия и власть с ними считается. В Чечне же политизация тарикатизма инициирована президентом республики Р. Кадыровым и происходит под его руководством. Так или иначе, и в Дагестане, и в Чечне местные тарика-ты становятся одновременно и субъектами политики, и ее инструментом в руках власти» [7, с. 73].
«Новый ислам» ассоциируется с религиозным радикализмом, подъем которого пришелся на 1990-е гг. Достаточно широк понятийный аппарат, используемый при описании исламского радикализма – фундаментализм , исламизм , салафизм , ваххабизм , джихадизм . При всех различиях и нюансах между радикалами в идеологии и образе действия, их главная цель, по мнению А.В. Малашенко, сводится к одному – «исламизации общества и построении исламского государства. В исламском радикализме крайне сложно, даже невозможно отделить собственно религиозную и социальнополитическую составляющую» [8, с. 71].
Существует определенная дифференциация исламского радикализма на умеренное, радикальное и ультрарадикальное (экстремистское) течения. Если с первыми двумя течениями внутри исламского радикализма возможно определить консенсус, то направление ультрарадикальное, ведущее открытую борьбу за захват светской власти, к диалогу не склоняется [9, с. 81].
В России, где применительно к радикалам чаще всего используется термин ваххабизм , единство религиозной и политической компоненты выражено особенно ярко. Ваххабиты одновременно выступают и против светской власти, и против «традиционного» ислама, включившего в себя этнические традиции.
«Традиционным» исламом А.В. Малашенко предлагает считать 1) суннитский ислам двух утвердившихся среди мусульман России мазхабов (религиозно-правовых школ) – ханафизма и шафиизма, 2) суффизм [10, с. 73]. Добавим к этому определению шиизм, распространенный в ряде населенных пунктов Южного Дагестана. Принимая во внимание особую значимость и высокий уровень присутствия духовного субстрата, определим данный тип «стратегии» религиозной жизни как адаптивный , то есть органично сочетающий в себе и религиозную идеологию, и этнический компонент.
До 1990-х годов традиционный ислам казался деполитизированным, погруженным во внутри-конфессиональные заботы. В настоящее время субъектами политического действия являются ваххабизм, заявивший о своих претензиях на статус логоса на рубеже ХХ–ХХI вв., и главные его оппоненты – суфийские тарикаты.
В.В. Наумкин и Д.В. Макаров отмечают, что ваххабизм представляет собой один, конкретноисторический вариант более широкого религиозного течения в исламе, которое принято называть салафийя (салафизм). «Центральная идея салафизма состоит в требовании вернуться к такому пониманию ислама и его главного принципа – единобожия ( таухид ), которое было у первых поколений мусульман, «праведных предков» ( салаф ), и, соответственно, очистить ислам от всех позднейших наслоений и искажений, главным из которых салафиты считают суфизм (в его кавказском варианте – тарикатизм)» [11].
Рассуждая об исламском факторе в мировой политике, В.В. Наумкин и Д.В. Макаров выделяют «джихадистский салафизм», который противопоставляет себя как традиционному салафизму, озабоченному религиозно-нравственной реформой и отвергающему идею восстания против существующей власти, так и радикальным исламистским организациям, понимающим джихад слишком узко, ограничивая его национальными и территориальными рамками [12]. Таким образом, ставить знак равенства между салафизмом и экстремизмом не представляется верным. Если подавляющее большинство экстремистов – салафиты, то отнюдь не все салафиты – экстремисты. Салафиты, не вторгающиеся в общественно-политическую сферу, определяют конформистское «крыло» исламского радикализма.
Противостояние ваххабизма и суфизма А.Г. Дугин рассматривает, исходя из парадигмы мифос/логос , согласно которой ислам народами Северного Кавказа осознается на интуитивном уровне, а ваххабизм, будучи политизированным направлением в исламе, заявляет о своих претензиях на статус логоса: «Самым главным врагом ваххабизма и салафизма является суфизм именно потому, что в суфизме легитимизируется аффектация бессознательного ислама еще более бессознательной этномифологией» [13, с. 148].
В настоящее время противостояние последователей традиционного ислама с ваххабитами становится политическим: ханафиты, шафииты, тарикатисты выступают на стороне власти, видящей в «чужом» исламе едва ли ни главного противника. В 1999 г. Народным Собранием РД был принят Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории республики Да- 220 - гестан». Из формулировки Закона следует, что ваххабизм и экстремизм официально признаны взаимосвязанными явлениями. Таким образом, данный Закон априори идентифицирует последователей ваххабизма с потенциальными экстремистами (террористами), тогда как деятельность антигосударственных экстремистских организаций должна регулироваться нормами Уголовного кодекса РФ. В данном же случае Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности…» диссонирует с Законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» и усиливает напряжение между мусульманами, принадлежащими к разным направлениям ислама. В результате ваххабиты не только не исчезли, но стали привлекать к себе еще большее внимание.
Одновременно с противостоянием во взаимоотношениях тарикатистов и исламистов в вопросах религиозной догматики в настоящее время наблюдается и новый уровень отношений, свидетельствующий о готовности к диалогу, развивающемуся в поле идеологии. Происходит, как отметил А.В. Малашенко, процесс конвергенции, при котором и радикальный, и традиционный ислам выступают за усиление в обществе роли шариата; позиции тарикатистов и исламистов практически едины в критике экспансии Запада (в особенности – США) в мусульманском мире. «Сближение позиций «нового» и традиционного ислама – феномен объективно неизбежный: сторонники обоих направлений считают ислам первостепенным регулятором общественных отношений, что может быть обеспечено лишь их контролем над властью или установлением собственного правления» [14, с. 80].
В случае успешности данного стремления возможна социально-политическая модель республики с арабо-мусульманским приоритетом. Нахождение ислама в статусе логоса в перспективе приведет регион к форме мусульманской республики с доминированием ислама в социальнополитической и других сферах жизни Дагестана.
Следует признать, что в массовых настроениях дагестанцев зачастую проглядывает скрытое сочувствие исламистам, которые выглядят единственной силой, реально способной регулировать коррупционные интересы чиновничьего аппарата. «Вокруг джихадистов создается романтический ореол борцов против антинародной и коррумпированной бюрократии», – резюмируют В.В. Наумкин и Д.В. Макаров [15]. В условиях социально-политической ситуации и высокого уровня коррупции в Дагестане религиозный радикализм приобрел форму протестной религии.
Если «традиционный» ислам, спаянный с духовным субстратом, является этническим по форме, то ваххабизм/салафизм/джихадизм/ect, отвергающий этническую природу ислама, находится «над» вопросом этнической самоидентификации и на первый план выводит самоидентификацию религиозную. Догмат «религия превыше этнической принадлежности», определяемый как одно из основных положений ваххабизма, выступает «цементирующим» компонентом в единении полиэтнического Дагестана. В XVIII – первой трети ХХ в. под знамением ваххабизма объединились феодальнораздробленные земли и бедуинские кланы нынешней Саудовской Аравии. В начале XXI в., по мнению некоторых исследователей, идеология ваххабизма может стать объединяющим фактором для полиэтничных северокавказских республик, определив, таким образом, перспективу их полного либо частичного отделения от Российской Федерации [16, с. 1115].
По мнению исследователей, радикальный ваххабизм будет оставаться долгосрочным фактором общественно-политической жизни России. «Сам по себе фактор радикального исламизма не может подорвать устойчивость нынешних политических режимов в регионе. Однако в случае критического обострения и/или наложения друг на друга социальных, экономических и этнополитических противоречий исламский фактор может сыграть роль той самой капли, которая переполнит чашу нынешней весьма хрупкой стабильности» [17].
Притягательность ислама зачастую обусловлена и политическими событиями – на Ближнем Востоке, в Афганистане, в Чечне, где под лозунгами ислама мусульмане противостоят куда более могущественным в военном и техническом отношении силам. Обусловленный конфликтами интерес к политике, рост протестных настроений способствует увеличению противников западного глобализма, что отражается на количественной прогрессии мусульман, в том числе и за счет обращения в ислам представителей славянских этносов.
Таким образом, в Дагестане сложилось определенное соотношение конформистской, адаптивной и протестной «стратегий» религиозной жизни. При таком соотношении мы наблюдаем: а) адаптивную стратегию религиозной жизни – в традиционном исламе, б) протестную – в исламском радикализме, в) конформистскую форму – у салафитов, не связанных ни с радикальным исламом, ни с «традиционным» этническим. Наиболее остро на социальные болезни общества всегда реагирует молодежь. Вступая в исламское движение, молодежь неизбежно привносит в него изрядную долю свойственного ей максимализма и нетерпимости, что в условиях Кавказа нередко развивается дальше в направлении исламского радикализма. Эта тенденция будет сохраняться, поскольку исламское движение по-прежнему растет в основном за счет притока молодежи.
Разрешение проблем и поиск внутриконфессионального диалога в Дагестане во многом зависят от решения материальных, социально-экономических и политических вопросов, от совершенствования системы религиозного образования, развития гражданских инициатив и гражданского воспитания.
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Малашенко А.В. Ислам в России: религия и политика // Исламоведение. 2010. № 3. С. 67–85.
-
2. Юнусова А.Б. Мусульманские центры в России и перспективы создания единого духовного управления // Ислам и государство / отв. ред. А.В. Малашенко, сост. А.Б. Юнусова. Уфа, 2007. С. 103–131.
-
3. Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М., 2010.
-
4. Малашенко А.В. Указ. соч.
-
5. Прозоров С.М. Заметки об исламе // Исламоведение. 2011. № 1.
-
6. Ханбабаев К.М. Мусульманский мистицизм на Северо-восточном Кавказе (на примере Дагеста
на) // Исламоведение. 2009. № 1. С. 100–122.
-
7. Малашенко А.В. Указ. соч.
-
8. Там же.
-
9. Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстре
мизм на Северном Кавказе: общее и особенное // Исламоведение. 2010. № 2. С. 79–89.
-
10. Малашенко А.В. Указ. соч.
-
11. Наумкин В.В., Макаров Д.В. Исламский фактор в мировой политике и интересы России // Стратегия России. 2007. № 7. URL:
17.10.2011).
-
12. Там же.
-
13. Дугин А.Г. Указ. соч.
-
14. Малашенко А.В. Указ. соч.
-
15. Наумкин В.В., Макаров Д.В. Указ. соч.
-
16. Дзуцев Х.В., Першиц А.И. Ваххабиты на Северном Кавказе – религия, политика, социальная практика // Вестник РАН. 1998. Том 68. № 12. С. 1113–1116.
-
17. Наумкин В.В., Макаров Д.В. Указ. соч.
-
1. Malashenko A.V. Islam v Rossii: religiya i politika // Islamovedenie. 2010. No. 3. P. 67–85.
-
2. Yunusova A.B. Musulʹmanskie tsentry v Rossii i per-spektivy sozdaniya edinogo dukhovnogo upravleniya // Islam i gosudarstvo / ex. ed. A.V. Malashenko, sost. A.B. Yunusova. Ufa, 2007. P. 103–131.
-
3. Dugin A.G. Logos i mifos. Sotsiologiya glubin. M., 2010.
-
4. Malashenko A.V. Op. cit.
-
5. Prozorov S.M. Zametki ob islame // Islamovedenie. 2011. No. 1.
-
6. Khanbabaev K.M. Musulʹmanskiy mistitsizm na Severo-vostochnom Kavkaze (na primere Dagestana) // Islamovedenie. 2009. No. 1. P. 100–122.
-
7. Malashenko A.V. Op. cit.
-
8. Ibid.
-
9. Khanbabaev K.M. Religiozno-politicheskiy
ekstremizm na Severnom Kavkaze: obshchee i oso-bennoe // Islamovedenie. 2010. No. 2. P. 79–89.
-
10. Malashenko A.V. Op. cit.
-
11. Naumkin V.V., Makarov D.V. Islamskiy faktor v mirovoy politike i interesy Rossii // Strategiya Rossii. 2007. No. 7. URL:
17.10.2011).
-
12. Ibid.
-
13. Dugin A.G. Op. cit.
-
14. Malashenko A.V. Op. cit.
-
15. Naumkin V.V., Makarov D.V. Op. cit.
-
16. Dzutsev H.V., Pershits A.I. Vakhkhabity na Severnom Kavkaze – religiya, politika, sotsialʹnaya praktika // Vestnik RAN. 1998. Vol. 68. No. 12. P. 1113–1116.
-
17. Naumkin V.V., Makarov D.V. Op. cit.
Список литературы Проблемы внутриисламского диалога в Дагестане
- Малашенко А.В. Ислам в России: религия и политика//Исламоведение. 2010. № 3. С. 67-85.
- Юнусова А.Б. Мусульманские центры в России и перспективы создания единого духовного управления//Ислам и государство/отв. ред. А.В. Малашенко, сост. А.Б. Юнусова. Уфа, 2007. С. 103-131.
- Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М., 2010.
- Прозоров С.М. Заметки об исламе//Исламоведение. 2011. № 1.
- Ханбабаев К.М. Мусульманский мистицизм на Северо-восточном Кавказе (на примере Дагестана)//Исламоведение. 2009. № 1. С. 100-122.
- Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе: общее и особенное//Исламоведение. 2010. № 2. С. 79-89.
- Наумкин В.В., Макаров Д.В. Исламский фактор в мировой политике и интересы России//Стратегия России. 2007. № 7. URL: http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php7subac tion=showfull&id=1185274200&archive=1185275035 &start_from=&ucat=14& (дата обращения: 17.10.2011).
- Дзуцев Х.В., Першиц А.И. Ваххабиты на Северном Кавказе -религия, политика, социальная практика//Вестник РАН. 1998. Том 68. № 12. С. 1113-1116.