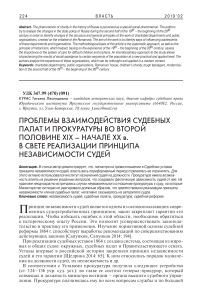Проблемы взаимодействия судебных палат и прокуратуры во второй половине XIX - начале XX в. в свете реализации принципа независимости судей
Автор: Курас Татьяна Леонидовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье автор демонстрирует, что, несмотря на провозглашение в Судебных уставах принципа независимости судей, власть весь пореформенный период стремилась ее ограничить. Для этого активно использовался институт назначений судей на должности. Прокуратура имела возможность влиять на решение указанных вопросов, что создавало фактическую зависимость судей от нее. На практике неоднократно встречались случаи неуважительного отношения прокуратуры к суду, на которые Министерство юстиции не реагировало должным образом, что препятствовало реализации принципа независимости членов судебных палат, негативно сказывалось на авторитете судов.
Независимость судей, судебные палаты, прокуратура, судебная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/170171320
IDR: 170171320 | УДК: 347.99 | DOI: 10.31171/vlast.v27i2.6355
Текст научной статьи Проблемы взаимодействия судебных палат и прокуратуры во второй половине XIX - начале XX в. в свете реализации принципа независимости судей
П ринцип независимости судей является одним из основополагающих современных судоустройственных принципов; закон закрепляет гарантии его реализации. Чтобы избежать ошибок в этой области, необходимо обратиться к историческому опыту России. Это позволит усовершенствовать законодательство и практику его применения. Изучение нормативной основы судебной реформы 1864 г. способствует выработке рекомендаций по совершенствованию действующих законов [Сапунков, Сапунков 2014: 194].
При реализации судебных уставов 1864 г. создана система, состоящая из мировых и общих судов: окружных, судебных палат и Правительствующего сената. Уставы впервые в российской истории закрепили принцип независимости судей и его гарантии [Щедрина 2014: 65]. К ним относились порядок назначения на должности судей, их несменяемость и др.
В соответствии с Уставами прокуратура получила следующее устройство (ст. 124–136 учр. суд. уст.): во главе ее состоял генерал-прокурор, который совмещал и должность министра юстиции – органа высшего судебного управления. Прокуратура подчинялась ему по всем вопросам службы и по большей части предметов процессуальной деятельности. Прокурорский надзор состоял при судах – судебных палатах и окружных судах. Положением суда определялась иерархия чинов прокуратуры: прокуратуры окружных судов подчинялись прокуратуре палаты. Связанная с судом общностью задач и функций, прокуратура представляла собой отдельную организацию и от суда не зависела. Надзор за деятельностью прокурорского надзора сосредоточивался в руках высших чинов прокурорской власти1.
В период действия старого законодательства Министерство юстиции не могло влиять на улучшение личного состава судов [Курас С.Л. 2014: 32]. Уставы же предоставили министру возможность укомплектовывать состав новых судов: по закону он назначал членов общих судов и чинов прокурорского надзора. Несмотря на сложности, министерство успешно справилось с этой задачей при проведении реформы. Выбирались кандидаты, положительно зарекомендовавшие себя на службе. При открытии судов в других судебных округах туда назначались судьи, соответствовавшие установленным законом требованиям [Морозова 2018: 31-32], внесшие вклад в становление и эффективное функционирование судов. В целом в судейском сообществе было немало представителей, независимо работавших на основе демократических принципов.
Однако через некоторое время после начала функционирования новых судов самодержавие пришло к выводу о необходимости назначения управляемых членов судов. В связи с этим с 1870-х гг. власть старалась ограничить самостоятельность и несменяемость судей. Министр юстиции отмечал, что суд должен быть исполнителем самодержавной воли2.
Одним из эффективных способов воздействия на членов судов стал институт назначения и перемещения на должности. При проведении реформы и открытии новых судов возникала необходимость замещения большого числа судей [Курас Т.Л. 2014: 46-47]. В результате по судебному ведомству можно было быстро сделать служебную карьеру. Постепенность повышения в судебной иерархии перестала осуществляться, с помощью назначений на должности власть поощряла или наказывала должностных лиц судов. Судью могли повысить или перевести на более низкую должность, изменить судебный округ с окраины на центр империи или наоборот. К 80-м гг. XIX в. повышение по службе осуществлялось уже в основном не по служебным заслугам и уровню правовых знаний, а по представлению конкретных должностных лиц. Это развило среди судей дух карьеризма, снизило их самостоятельность и независи-мость3. Отношение судей к службе стало более формальным, большая их часть стремились сделать карьеру. Особо негативные моменты были связаны со взаимоотношениями с прокуратурой. Через нее Министерство юстиции негласно собирало сведения о судьях, в т.ч. для решения вопроса об их перемещениях и назначениях. Это создало фактическую зависимость судей и ставило прокуроров в привилегированное положение по сравнению с составом судов, при которых они состояли [Градовский 1883]. В дореволюционной юридической печати отмечалось, что все чаще повторяются случаи действий чинов прокуратуры, несовместимых с достоинством и значением суда, на высоте которых он должен находиться по Судебным уставам 1864 г. Так, подчеркивались частые случаи воздействия прокуратуры на суд, проявление неуважения к нему, несовместимого с его статусом. К примеру, зачастую председательствующие в судебных заседаниях уголовных департаментов палат в ущерб беспристрастности и равноправию сторон помогали прокуратуре и в направлении судебного следствия, и в своих речах, которые приняли к 1880-м гг. характер вторых обвинительных. Складывалось положение, когда члены судебных палат не хотели ссориться с прокуратурой и открыто вставали на сторону обвинения1.
В юридической печати давалась крайне отрицательная оценка ситуации, при которой происходило «уродливое сближение» прокурорского надзора с административными властями и осуществлялось их влияние на суд. Сложившееся положение, несомненно, препятствовало реализации права подсудимых на защиту и негативно сказывалось на авторитете судов. Положение защиты стало очень тяжелым. Так например, в одном из дел председательствующий сказал присяжным заседателям «не верить» объяснению защитника, что всякое сомнение должно быть истолковано в пользу подсудимого, а на просьбу защитника о внесении этого высказывания в протокол грубо оборвал его и вынес резолюцию о передаче вопроса о его поведении на рассмотрение совета присяжных поверенных. Этот и подобные случаи, оставаясь безнаказанными, послужили установлению за прокуратурой главенствующего значения на суде2.
Такое положение прокуратуры во взаимоотношениях с судом фактически поощрялось властью в лице министра юстиции. Особо значимая роль в поддержании обвинения и обеспечении вынесения жестких обвинительных приговоров возлагалась на прокуратуру в политических процессах. Ей централизованно давались указания, обязательные к применению в целях борьбы с революционным движением [Ефремова 1982: 146]. В необходимых случаях прокуроры вызывались министром юстиции для проведения «разъяснительной беседы». С «непослушными» судьями разговор и вовсе был коротким; принцип независимости судей постепенно стал фикцией. Так, старший председатель Московской судебной палаты сенатор Арнольд, оправдавший 75 человек по делу о вооруженном восстании в Москве в доме Фидлера, старший председатель Казанской судебной палаты Рынкевич, член Виленской судебной палаты Скарятин и другие судебные деятели, выносившие судебные приговоры не в соответствии с обвинительной позицией прокурора, а на основании закона и своих убеждений, были лишены судейского звания [Клейнборт 1908: 119-120].
Таким образом, Министерство юстиции давало должностным лицам прокуратуры обязательные к применению обвинительные установки и фактически поддерживало главенствующую роль прокуратуры во взаимоотношениях с судом. При этом в различных публичных выступлениях министр юстиции лицемерно подчеркивал, что процесс основан на состязательности и равноправии сторон; прокурор должен «ограждать невинного от неправильного осуждения, а виновного – от неправильных мер» [Щегловитов 1903: 140-141]. В соответствии с законом целью прокурора в уголовном процессе было установление истины, он не должен был представлять дело в одностороннем виде3. Однако на практике ситуация была обратной.
Газеты неоднократно сообщали сведения из разных судебных округов о поведении представителей прокуратуры, не соответствующем требованиям закона. Уже в течение первого 10-летия новых судов накопилась масса фактов, позволяющих сделать общественно значимые выводы. В связи с большим объемом нареканий Министерство юстиции в 1875 г. решило приступить к составлению инструкции о порядке сношения лиц прокурорского надзора с органами судебной власти [Савицкий 1883]. Но более чем за 20 лет это так и не было сделано, и только в 1896 г. был издан «Наказ чинам прокурорского надзора судебных палат и окружных судов», в котором им разъяснялась необходимость уважительного отношения к суду и достойного поведения в процессах1.
Общество не понимало, почему, к примеру, председательствующий в суде, пригрозивший малолетней свидетельнице розгами, подвергается дисциплинарной ответственности, а прокурор, употребляющий такие ругательные выражения по отношению к стороне, как «отъявленный мошенник» и др., мешающий говорить председательствующему, желающий противоположной стороне или присяжным заседателям «быть ограбленными», не подвергается гласно никакому наказанию [Савицкий 1883].
Однако многие не согласились с мнением о достаточности нравственного осуждения выходок прокуратуры. Они отмечали, что ненормальная постановка прокуратуры в ряду других органов власти, обусловившая непозволительное поведение с ее стороны, существует очень давно и пустила глубокие корни. Поэтому одного нравственного осуждения недостаточно. Юридическая общественность высказывала мнение о необходимости наложения на должностных лиц прокуратуры гласных мер дисциплинарного воздействия. Такое дисциплинарное производство хотя бы и закончилось выговором, замечанием, предостережением, но было бы необходимо в интересах воспитания прокуратуры, стоящей «вне закона», как выражалась редакция «Судебного вестника» [Савицкий 1883].
В 1894 г. при Министерстве юстиции была образована комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Она приступила к работе, имея огромный материал, накопившийся в течение почти 30-летней судебной практики новых судов. Примечательно, что, проверяя личный состав судов и прокуратуры, члены комиссии указывали только на положительные моменты, «не замечая» сложившихся нездоровых отношений между судом и прокуратурой
[Городыский 1901: 8]. Кроме «исключительных явлений», члены комиссии признали отношения между чинами судебного ведомства «вполне удовлетворительными», в значительном большинстве «не оставляющими желать лучшего». Отношения чинов судебного ведомства к лицам, нуждающимся в защите своих интересов, признаны комиссией «превосходными». То внимание, с которым судебные деятели относятся к каждому просителю, «снискало им полное доверие и уважение» со стороны общества [Городыский 1901: 12-13]. То есть, члены комиссии освещали вопросы взаимодействия суда с прокуратурой в положительном свете, игнорируя лежавшие на поверхности и широко освещавшиеся в юридической печати проблемы.
Таким образом, власть весь период деятельности новых судов стремилась ограничить независимость судей, провозглашенную в Судебных уставах. Для этого активно использовался институт назначения судей на должности. Прокуратура негласно влияла на решение указанных вопросов, что создавало фактическую зависимость судей, ставило прокуратуру в привилегированное положение. На практике неоднократно встречались случаи неуважительного отношения прокуратуры к суду, на которые Министерство юстиции не реагировало должным образом. Указанное положение прокуратуры во взаимоотношениях с судом фактически поощрялось властью в лице Министерства юстиции, которое возлагало на прокуратуру особую роль в поддержании обвинения и обеспечении вынесения жестких обвинительных приговоров в политических процессах. Все это препятствовало реализации принципа независимости членов судебных палат, негативно сказывалось на авторитете судов и результатах рассмотрения дел.
Список литературы Проблемы взаимодействия судебных палат и прокуратуры во второй половине XIX - начале XX в. в свете реализации принципа независимости судей
- Городыский Я.К. 1901а. Наши суды и судебные порядки по данным ревизии 1895 года. -Журнал Министерства юстиции. № 2. С. 1-43
- Градовский Г. 1883. Еще о прокуратуре. -Судебная газета. № 19. С. 4-5
- Ефремова Н.Н. 1982. Министерство юстиции Российской империи в период первой русской революции. -Историко-правовые исследования: проблемы и перспективы. М.: Наука. С. 142-148
- Клейнборт Л. 1908. В пределах досягаемости (политические процессы 1906-1908 гг.). -Образование. № 8. С. 118-136
- Курас С.Л. О некоторых аспектах реформирования суда на страницах «Журнала Министерства юстиции»//Правовая политика современной России: реалии и перспективы: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию земской и судебной реформ в России. Иркутск. 8 нояб. 2014 г. Иркутск: Изд-во ИГУ. С. 32-34