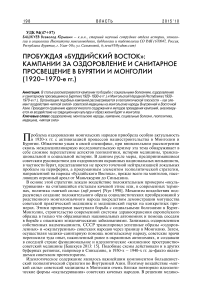Пробуждая «буддийский Восток»: кампании за оздоровление и санитарное просвещение в Бурятии и Монголии (1920-1970-е гг.)
Автор: Башкуев Всеволод Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются кампании по борьбе с социальными болезнями, оздоровлению и санитарному просвещению в Бурятии (1920-1930-е гг.) и Монгольской Народной Республике (1930-1970-е гг.). Организация подобных кампаний рассматривается в геополитической плоскости как элемент воздействия «мягкой силой» советской медицины на монгольские народы Внутренней и Восточной Азии. Проводится сравнение идеологического содержания и методов проведения кампаний, анализируется их воздействие на традиционную культуру и образ жизни бурят и монголов.
Оздоровление, монгольские народы, кампании, социальные болезни, геополитика, медицина, "мягкая сила"
Короткий адрес: https://sciup.org/170167695
IDR: 170167695 | УДК: 94(47+57)
Текст научной статьи Пробуждая «буддийский Восток»: кампании за оздоровление и санитарное просвещение в Бурятии и Монголии (1920-1970-е гг.)
П роблема оздоровления монгольских народов приобрела особую актуальность в 1920-х гг. с активизацией процессов нациестроительства в Монголии и Бурятии. Обманчиво узкая в своей специфике, при внимательном рассмотрении сквозь междисциплинарную исследовательскую призму эта тема обнаруживает в себе сложное переплетение аспектов геополитики, истории медицины, транснациональной и социальной истории. В данном русле меры, предпринимавшиеся советским руководством для оздоровления окраинных национальных меньшинств, в частности бурят, представляются не просто точечной нейтрализацией локальных проблем на периферии, а продуманным элементом геополитической стратегии, направленной на народы «буддийского Востока», прежде всего на монголов, населяющих огромный ареал от Маньчжурии до Синьцзяна.
В основе этой стратегии лежало воздействие положительным примером «окультуривания» на считавшийся отсталым кочевой этнос или, в современных терминах, политика «мягкой силы» ( soft power ) [Nye 1990]. Механизм воздействия подразумевал создание положительного образа социалистических преобразований у родственного монголоязычного народа посредством демонстрации могущества советской практической медицины и медицинской науки на конкретных примерах. Этими примерами выступали борьба с социальными болезнями в Бурят-Монголии, строительство современной системы здравоохранения европейского образца в только что образованных национальных автономиях и помощь соседям в борьбе с опасными эпидемическими заболеваниями. Занимаясь оздоровлением собственных нацменьшинств, СССР транслировал успешные образы «оздоровленных» и «окультуренных» советских народов через границу в Монголию. Затем, осуществляя медико-санитарную помощь монгольскому народу, советские врачи переносили туда опыт, накопленный ранее в окраинных автономиях, и создавали в соседней стране функциональное и идеологическое «жизненное пространство» советской медицины [Башкуев 2013: 15]. Подобные схемы действовали и в других буферных регионах, например в Синьцзяне, в 1930-х – 1940-х гг. де-факто являвшемся советским протекторатом.
Идеологическое содержание являлось важнейшим компонентом большевистской геополитической стратегии во Внутренней Азии. Поэтому воздействие «мягкой силы» советской медицины в Монголии очень близко повторяло идеологические формы «окультуривания» советских кочевых народов. В решении медико- санитарных задач довлел фактор классовой борьбы, часто имевший печальные последствия как для эффективности работы, так и для традиционной культуры монголов. В организации преобладали присущие советскому строю массовые кампании и агрессивный стиль в риторике. Кроме того, наряду с практическим опытом борьбы с социальными болезнями и эпидемиями, в Монголию переносились идеологические методы подавления конкурирующих медицинских и целительских практик, в первую очередь тибетской и традиционной монгольской медицины.
Другим значимым компонентом являлся культурный аспект кампаний по оздоровлению и санитарному просвещению. Прагматичные большевики вторили русским гигиенистам и венерологам конца XIX – начала XX вв., говоря о культурной отсталости кочевников как о первопричине распространения социальных болезней. Глубинная социокультурная трансформация, уготованная кочевникам советскими идеологами в качестве обязательного условия перехода в социализм, подразумевала внедрение новых концепций личной и общественной гигиены, половых отношений, семьи и общества. Последовавшее изменение сознания, мировосприятия, образа жизни и способов взаимодействия с окружающим миром, воплощенное путем слома традиционных культурных основ и быстрого, зачастую поверхностного овладения новыми концепциями и социальными навыками, носило характер культурной революции.
Массовый охват, централизованная координация, идеологическое единообразие и наличие четких мобилизующих фреймов в виде лозунгов, хлестких эпитетов, идеологизированных образов друга и врага, визуальных материалов (плакатов, передвижных выставок, фильмов, театрализованных представлений) характеризуют борьбу за оздоровление бурят и монголов как разновидность инициированных сверху социальных движений. Представляется, что целью являлось ускоренное распространение новых концепций и идеологии в среде простых людей доступными средствами и создание глубинных установок на их прочное укоренение в массах. Обратная связь реализовывалась в местных инициативах – социалистических соревнованиях, санитарных судах, письмах в редакции газет и т.д.
Кампании за оздоровление и санитарное просвещение в Бурят-Монголии (1920-е – начало 1930-х гг.)
Создание бурятской национально-территориальной автономии большевики считали важным компонентом внешнеполитического влияния на монгольские народы. В 1922 г., накануне объединения двух бурятских автономных областей в республику, М.Н. Ербанов и М.И. Амагаев писали: «Нужно отметить очень крепкие этнографические и культурно-бытовые связи бурят Забайкалья с родственными им по языку и прошлому монголоязычными массами Восточной и Центральной Азии. Это племенное и религиозное родство делает из бурят при известных условиях незаменимых проводников советского влияния, прежде всего в соседней Монголии» 1 .
Однако успех советского плана воздействия «мягкой силой» всецело зависел от того, насколько быстро новообразованная национальная автономия сможет справиться с серьезными внутренними проблемами, унаследованными от царизма. На первом плане, без сомнения, стояла проблема человеческих ресурсов. Серьезные научные исследования человеческого потенциала региона не проводились со времен П.С. Палласа и И.Г. Георги. За исключением нескольких статей Ю.Д. Талько-Гринцевича, физическая конституция местных жителей, их трудоспособность и предрасположенность к тем или иным заболеваниям или труду оставались вне поля зрения ученых. Существование подобных лакун в научном знании о народах Бурятии, их созидательном потенциале и насущных проблемах противоречило основным задачам большевиков, прежде всего, быстрой экономической и социальной модернизации пограничной территории и последующему ее превращению в «форпост социализма на буддийском Востоке», транслирующий положительный опыт социализма монголам Внутренней и Восточной Азии. В документах Госплана Бурят-Монгольской АССР красной нитью проходила мысль о том, что создание кадрового потенциала республики не представлялось возможным без серьезных исследований в соответствующих областях [Башкуев 2014: 142].
Таким образом, одним из основных аспектов кампании по оздоровлению бурятского народа являлось его комплексное научно-медицинское изучение. При этом исследоваться должны были не только чисто медицинские проблемы, но и вопросы, связанные с расовой антропологией и генетикой. Эти задачи органично ложились в евгенический контекст создания человека новой социалистической генерации. Решить его были призваны комплексные экспедиции, организованные при содействии высших органов власти и Академии наук СССР.
Научные экспедиции начали работать на территории республики с середины 1920-х гг. Из-за специфики ситуации со здравоохранением целью большинства экспедиций было изучение социальных болезней – сифилиса, туберкулеза, трахомы. Некоторые из экспедиций были сформированы Наркомздравом РСФСР совместно с научно-медицинскими институтами, часть – Академией наук СССР. Экспедиции также организовывались в рамках шефства Моссовета над БМАССР. Привлекалась иностранная экспертиза в лице германских медиков, дважды посещавших БМАССР для изучения эндемического сифилиса – в 1926 и 1928 гг. [Башкуев 2014: 144].
Активность научно-медицинских экспедиций различных ведомств была обусловлена несколькими факторами. Так, задолго до создания Бурят-Монгольской автономной республики бурятские коммунисты, общественные деятели и работники здравоохранения били тревогу по поводу стремительно ухудшавшегося состояния здоровья бурят. К примеру, в ноябре 1922 г. М.И. Амагаев писал: «Процесс вымирания не принял массового характера, но все же он определенно наметился. Ближайшие перспективы развития бурятского населения довольно мрачны. Одна из сторон европейской культуры… нашла крайне благоприятные условия распространения и приняла катастрофический характер – это социальные болезни» 1 . На этом же заостряли внимание первый нарком здравоохранения Бурятии А.Т. Трубачеев и его заместитель доктор В.Н. Жинкин.
Кроме того, задачи советской государственной медицины 1920-х гг. были сконцентрированы в основном на преодолении последствий гуманитарной катастрофы – Гражданской войны, вековой российской отсталости в области массового распространения медицинских услуг; проведении профилактики заболеваний, привитии навыков социальной гигиены и медицины; охране материнства и младенчества. Оздоровление «малокультурных» кочевых народов отлично укладывалось в этот проблемный контекст, позволяя параллельно решить ряд идеологических задач. Кроме того, определенный отпечаток на отраслевое формирование экспедиций наложила специализация главных фигур наркомздравов РСФСР и БМАССР, среди которых преобладали гигиенисты (Н.А. Семашко) и венерологи (В.М. Броннер, А.Т. Трубачеев, В.Н. Жинкин).
Большую роль в организации медико-санитарной помощи Бурят-Монгольской АССР сыграл В.М. Броннер (1876–1939), создатель Государственного венерологического института в Москве, заведующий венподотделом Наркомздрава РСФСР, старый большевик, уроженец Бурятии и большой ее друг.
Основным этапом кампании по борьбе с социальными заболеваниями в БМАССР была широкомасштабная работа по обследованию населения. На переднем крае находились мобильные медицинские группы – венерологические, трахоматозные и туберкулезные отряды. Их формировали из специалистов центральных научномедицинских институтов или из кадров Наркомздрава БМАССР. Большую роль играли научно-медицинские экспедиции: советско-германская экспедиция по изучению сифилиса 1928 г., экспедиции Центрального туберкулезного института в 1929 и 1930 гг., научные экспедиции Наркомздрава РСФСР и Деткомиссии ВЦИК 1929 г. по изучению здоровья детей в Бурят-Монгольской АССР и туберкулезная экспедиция Мосгорздравотдела 1933 г.
Следующий этап включал в себя различные виды санитарной пропаганды. Часть работы выполнялась сотрудниками обследовательских отрядов на местах.
Демонстрируя кочевникам возможности медикаментозного лечения, советские медики параллельно вели борьбу с буддистской и традиционной шаманской медициной.
Кампания шла и в средствах массовой информации. В периодической печати объявлялись дни и месячники борьбы с венерическими заболеваниями, изготавливались плакаты, муляжи, наглядные пособия для домов санитарного просвещения, проводились публичные лекции, печатные материалы переводились на бурятский язык. Централизованно проводилась работа по борьбе с проституцией, создавались программы бытовой и социальной адаптации беспризорных женщин, специальные общежития и дома временного пребывания и трудовые артели.
Кампания против социальных болезней была ярким примером модернизаторских амбиций большевиков. Являясь важным компонентом ленинской национальной политики, в случае Бурят-Монгольской АССР она увенчалась успехом. В ходе упорной работы с 1923 по 1930 гг. удалось существенно снизить заболеваемость сифилисом, трахомой и туберкулезом в республике. За несколько лет были открыты 6 венерологических и 2 туберкулезных диспансера в аймаках БМАССР, 1 венерологический и 1 туберкулезный диспансер в г. Верхнеудинске. Пропаганда европейской медицины, личной гигиены и здорового образа жизни, санитарное просвещение и, самое главное, казавшееся бурятам чудодейственным исцеление, казалось бы, безнадежных больных возымели действие, и лечение венерических болезней стало действительно массовым явлением. Во взглядах кочевников-бурят на природу и лечение болезней наметился коренной перелом.
Кампании по оздоровлению и санитарному просвещению в Монголии (1930-е – начало 1980-х гг.)
В Монголии, в 1924 г. ставшей Монгольской Народной Республикой, путь из феодализма в социализм сопровождался глубинными социокультурными трансформациями. Согласно сложившемуся консенсусу монгольских историков, значительные социальные изменения были постепенно достигнуты в ходе следовавших одна за другой культурных кампаний. У монгольских модернизаторов процесс внедрения концепции социалистического строя среди кочевых скотоводов занял более 40 лет, до официального достижения социализма в 1961 г.
Там, где дело касалось проблемы инфекционных болезней, сифилис выступал основным бичом монгольского народа. Несмотря на то что в официальной историографии этот аспект описан мало, в коллективной памяти того поколения четко отпечаталась именно борьба с венерическими болезнями, или «красный укол» [Stolpe 2012: 370]. Этимология названия проста и не имеет ничего общего с «красной» идеологической пропагандой. Венотряды, боровшиеся с сифилисом по всей Монголии, делали людям инъекции препаратом красноватого цвета, являвшимся советским аналогом неосальварсана (новарсенол). Борьба с венерическими болезнями имела и другой важный для монголов аспект – восстановление репродуктивного потенциала нации, у которой в результате масштабных кампаний по оздоровлению начался демографический подъем. Как пишет немецкая исследовательница Инес Штольпе, несколько опрошенных ею на эту тему информантов заметили: «Мы – дети красного укола» [Stolpe 2008: 62]. Эффективность проти-восифилитических препаратов отлично демонстрировала преимущества научной медицины европейского образца перед традиционной народной и тибетской медициной. Как и ранее в Бурятии, «красный укол» помогал поставить на ноги прежде казавшихся безнадежными больных, чего не могли добиться эмчи-ламы, использовавшие свои средства (травы и киноварь). Это позволило постепенно дискредитировать практиковавших тибетскую медицину лекарей и отобрать у них основную клиентуру. Кроме того, сифилис давал удобный предлог обвинять олицетворявших старый режим китайских торговцев и солдат, а затем и лам в распространении эпидемии.
Как и в Бурятии, в монгольских культурных кампаниях широко использовалась риторика, заимствованная из военного лексикона: «искоренение», «ликвидация», «уничтожение». Этот метафорический перенос значений из военного в сугубо гражданский медицинский лексикон сопровождал заимствование идей большевистской модернизации из СССР и в точности повторял процессы, проходившие совсем недавно либо еще не закончившиеся по ту сторону границы.
Параллельно с кампанией против венерических болезней в поле зрения монгольских коммунистических активистов оказались вопросы половых отношений и проституция. Последняя была признана контрреволюционным пороком, а проститутки подверглись репрессиям, подобно бывшей родовой знати, духовенству, китайскому купечеству и другим «враждебным элементам». В этом монгольские последователи большевиков тщательно следовали сталинской карательной политике [Terbish 2013: 253].
В 1940 г. Х. Чойбалсан объявил об окончательном вступлении страны на социалистический путь развития и раскрыл планы на дальнейшее строительство социализма, включая активизацию борьбы с венерическими болезнями. К тому моменту Монголия могла только копировать советский опыт. В уже кристаллизовавшемся в СССР тоталитарном сталинском обществе любые проявления культуры секса были табуированы, половые отношения в крайней степени заидеологизированы. Несмотря на то что многие аспекты так называемой политики семьи были прогрессивны в контексте МНР (широкомасштабная борьба с венерическими болезнями, охрана материнства и младенчества), по своей сути это была репрессивная политика, строго регламентировавшая важнейшие физиологические и эмоциональные аспекты жизни людей [Terbish 2013: 254].
В следующие два десятилетия культурные кампании главным образом концентрировались на более узких, экономических вопросах. Только процесс коллективизации, начавшийся в середине 1950-х гг. и завершившийся формированием новой современной инфраструктуры – школ, больниц, почтовых отделений, ветпунктов, клубов, магазинов, – выявил необходимость новой общенациональной культурной кампании, начавшейся в 1959 г. На сей раз она была нацелена на искоренение неграмотности, антисанитарных условий и алкоголизма в преддверии сороковой годовщины Монгольской революции (1961 г.). Основной целью была модернизация. По известной в Монголии версии, инициатором кампании был Ю. Цэдэнбал, глава МНРП и государства, который в 1960 г. посетил свой родной Убсунурский аймак и был настолько поражен условиями, в которых проживали люди в отдаленном аймаке, что немедленно принялся за организацию самой масштабной на тот момент культурной кампании. Дашрэнцен, журналист, напечатавший эту версию в ежедневной газете, утверждал, что Ю. Цэдэнбал увидел всю отсталость монгольской глубинки «европейскими глазами». По мнению журналиста, именно культурные кампании, а не революция и коллективизация привели к столь масштабным качественным изменениям в монгольском обществе. Вне зависимости от того, что думают сегодня о Ю. Цэдэнбале и его деятельности, именно он превратил страну из «Монголии черных юрт» в «Монголию белых юрт», что, по мнению Инес Штольпе, можно расценивать как метафорическое отражение социальных изменений и модернизации. (В Монголии белая юрта традиционно олицетворяет собой процветание.) [Stolpe 2012: 373-374].
Закрепление «фундамента социализма» в 1970–1980-х гг. ознаменовалось новыми культурными кампаниями, направленными на повсеместное внедрение гигиены. В этот период внимание, в частности, уделялось распространению по всем аймакам товаров, символизирующих чистоту и опрятность, – мыла, зубной пасты, зубных щеток, полотенец, салфеток, стиральных порошков, в основном импортированных из стран социалистического лагеря. По отдаленным аилам разъезжали комиссии по проверке гигиенического состояния жилищ и людей, проводились социалистические соревнования на самую гигиеничную семью аратов и т.д. [Stolpe 2008: 75-77]. Эти мероприятия с той или иной степенью интенсивности продолжались до самого заката социалистического строя в 1990 г.
Таким образом, кампании по оздоровлению и санитарному просвещению населения в Бурятии и Монголии демонстрируют не просто схожесть, а идентичность целей, задач, методов и средств. Этому способствовала как типологическая близость социально-культурных условий двух близкородственных кочевых народов, так и геополитическая цель советского руководства, заключавшаяся в максимальном закреплении Монголии и всего монголоязычного ареала в геополитическом кильватере СССР и расширении воздействия коммунистической идеологии на другие страны «буддийского Востока». Учитывая специфику проблем здравоохранения данного региона, именно медицина послужила основным инструментом воздействия «мягкой силой», причем в обоих случаях основными целями кампаний по оздоровлению и санитарной пропаганде стали социальные болезни, а именно сифилис и другие венерические заболевания.
Массовость, централизованная координация, идеологическое единообразие и наличие четких мобилизующих фреймов в виде лозунгов, понятных эпитетов, идеологизированных образов друга и врага, визуальных материалов (плакатов, передвижных выставок, фильмов, театрализованных представлений) характеризуют борьбу за оздоровление бурят и монголов как социальное движение, инициированное сверху. Пример с историей о начале общенациональной культурной кампании 1960-х гг. Ю. Цэдэнбалом в Монголии свидетельствует о том, что, начавшись в самых верхах, это движение распространилось в массы. И хотя не везде и не всегда оно пользовалось всенародной поддержкой, а местами и вовсе открыто саботировалось, его результаты сегодня осознаются большинством бурят и монголов как положительные.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Геомедицинская ситуация в Байкальском регионе и вызовы геополитической безопасности России во Внутренней Азии: история и современность». Проект № 14-06-00312.
Список литературы Пробуждая «буддийский Восток»: кампании за оздоровление и санитарное просвещение в Бурятии и Монголии (1920-1970-е гг.)
- Башкуев В.Ю. 2013. Медицина и политика «мягкой силы» в геополитических стратегиях СССРвмонгольском мире. -Вестник БНЦ СО РАН. № 4. С. 14-21
- Башкуев В.Ю. 2014. Геополитика и евгеника в контексте научного изучения Бурят-Монгольской АССР в 1920-х -начале 1930-х гг. -Власть. № 5. С. 140-145
- ye J.S. 1990. Soft Power. -Foreign Policy. No 80. P. 153-171
- Stolpe I. 2008. Display and Performance in Mongolian Cultural Campaigns. -Conflict and Social Order in Tibet and Inner Asia (ed. by F. Pirie, T. Huber). Brill. P. 59-84
- Stolpe I. 2012. From Purity to Cleanliness: Changing Concepts in Mongolia. -How Purity is Made (ed. by P. Rösch, and U. Simon). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. P. 369-392
- Terbish B. 2013. Mongolian Sexuality: A Short History of the Flirtation of Power with Sex. -Inner Asia. No 15. С. 243-271