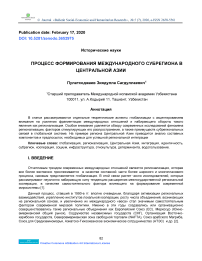Процесс формирования международного субрегиона в центральной Азии
Автор: Пулатходжаев Зиядулла Сагдуллаевич
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 5 (7), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты глобализации с акцентированием внимания на усилении фрагментации международных отношений и набирающего обороты такого явления как регионализация. Особое внимание уделяется обзору современных исследований феномена регионализации, факторов стимулирующих его распространение, а также преимуществ субрегиональных связей в глобальной системе. На примере региона Центральной Азии приводится анализ составных компонентов и предпосылок, необходимых для успешной региональной интеграции
Глобализация, регионализация, Центральная Азия, интеграция, идентичность, субрегион, кооперация, социум, инфраструктура, этнокультура, детерминанта, водопользование
Короткий адрес: https://sciup.org/14114723
IDR: 14114723 | DOI: 10.5281/zenodo.3652975
Текст научной статьи Процесс формирования международного субрегиона в центральной Азии
Отчетливым трендом современных международных отношений является регионализация, которая все более явственно прослеживается в качестве составной части более широкого и многопланового процесса, каковым представляется глобализация. В этой связи растет число исследователей, которые рассматривают неуклонно набирающую силу тенденцию расширения межгосударственной региональной кооперации, в качестве самостоятельного фактора влияющего на формирование современной миросистемы [1].
Данный процесс, ставший в 1990-е гг. вполне очевидным, благодаря активизации региональных взаимодействий, укреплению институтов локальной кооперации, росту числа объединений, возникающих на региональной основе, и увеличению их международного «веса» стал значимым самостоятельным фактором современной мировой политики. Именно в эти годы создавались или организационно совершенствовались такие региональные объединения как Европейский Союз (ЕС), Меркосур (Южноамериканский общий рынок), Содружество независимых государств (СНГ), Организация Восточно-карибских государств, Североамериканская зона свободной торговли (NAFTA), Союз арабского Магриба, Союз для Средиземноморья, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и др. [2].
II. МЕТОДОЛОГИЯ
В статье используется физико-географические, хозяйственные, этнокультурные и языковые общности, а также общность исторической ретроспективы для определения региональной идентичности. В этих целях также применяется понятие вернакулярной территории в комбинации с методикой, основанной на анализе эргонимов для обоснования формирования международного субрегиона в Центральной Азии.
III. ОБСУЖДЕНИЕ
Международное экспертное сообщество считает, что региональные интеграционные соглашения, способны оказывать позитивное воздействие на ход многосторонних торговых переговоров, снижать издержки и негативные последствия глобализации благодаря наработке приемлемых решений, не только в одной отдельной взятой стране, а в группе стран. Таким образом, они упрощают путь глобальной интеграции. Зачастую они вообще являются единственно возможным решением, позволяющим сгладить противоречие между производительными силами, которые переросли рамки отдельных наций, но не достигли еще мировых масштабов. Эти эксперты рассматривают регионализацию в качестве переходного этапа к равноправному участию в глобальном разделении труда для стран развивающего мира [3].
В последние годы процессы регионализации приобрели устойчивый характер, превратившись в одну из наиболее актуальных проблем в контексте обсуждения тенденций и перспектив развития международных отношений. Рассматривая вопросы локальной кооперации важно определиться с понятием региональной идентичности. Современное понимание региональной идентичности не является однозначным в международной науке. Одни авторы понимают под региональной идентичностью системную совокупность культурных отношений, связанную с понятием «малая родина» и являющуюся формой выражения культуры укоренённости. Региональная идентичность интегрируется в пределах определённых территорий, это к примеру местные проявления идентичности центральноазиатского региона, а также различные локальные идентичности каждой из стран. При этом данное понятие не рассматривается как идентичность определённого уровня в противовес локальному или общерегиональному уровням [4].
Вместе с тем, большинство авторов считает, что региональная территориальная идентичность является полимасштабным, многоуровневым феноменом. Национальное и общерегиональное для Центральной Азии (ЦА) самосознание очень часто образует как бы разные «концентры» территориальной идентичности. Международный регион, каковым является ЦА это пространство, выделенное как данность со стороны самих народов, веками заселявших эти территории и имеющих физико-географическою, хозяйственную, этнокультурную и языковую общность, а также общность исторической судьбы. Таким образом, понятие региона получает внемасштабное и разномасштабное содержание, задаваемое не классификационно, а типологически. Существует точка зрения, согласно которой выделение региональной идентичности не вполне корректно в общей структуре идентичностей. В то же время другие авторы предпринимают попытки классифицировать и структурировать иерархию идентичностей и выделить в ней место международной региональной идентичности. В данном случае региональная идентичность Центральной Азии рассматривается в качестве одного из уровней территориальной идентичности, при этом основная ступенька отдана национальной идентичности, а дополнительный «этаж» в иерархии общетерриториальной идентичности занимает все более укрепляющееся в международном сознании понятие мирового субрегиона, формирующегося в Центральной Азии.
При этом возраст территорий определяет развитие общего самосознания. В то же время для формирования территориальной идентичности любого уровня принципиальное значение имеет историческая зрелость или же устойчивость межнационального общения, определяемая давностью и длительностью совместного сосуществования. Исторически зрелые взаимоотношения народов определяют политическую, социальную и культурную целостность региона. Зачастую сложившиеся отношения прошлых эпох служат современными или реликтовыми культурными объединительными рубежами.
Всё чаще в исследованиях, связанных с вопросами региональной идентичности, используется понятие «вернакулярный район». Вернакулярные районы — это одна из форм пространственной самоорганизации общества, которая выявляется через изучение его пространственных представлений. Обычно под вернакулярной территорией понимается та часть территории, основное население которой осознает её как понятной, ментально легко воспринимаемой, соответственно легкой адаптируемой при длительном нахождении, но не являющейся частью государства, гражданином которой является исследуемый индивидуум. Одна из методик по выявлению и исследованию вернакулярных районов разработана в работе С. Г. Павлюка [5]. Наиболее универсальным и простым способом выявления пределов и степени выраженности вернакулярных районов признана методика, основанная на анализе эргонимов (названий местностей, имен, общих культурных представлений, и т.п.) исследуемой территории. Современные методики региональных исследований, в целом показывают, что народы Центральной Азии с все более возрастающей динамикой формируют общую идентичность, которой способствует комбинация и сопряженность как внутреннего развития, такие внешние факторы.
Наиболее часто противники регионализма указывают, что бедные страны допускают большую ошибку, выстраивая собственные объединения. Они считают, что экономическая неразвитость участников региональных объединений является усугубляющим препятствием для их экономического процветания, а более эффективным способом преодоления отсталости бедными странами является международная интеграция или другими словами встраивание на прямую в глобальные процессы [6]. Однако большинство экспертов убеждены, что региональные интеграционные соглашения, наоборот, способны оказывать позитивное воздействие на ход многосторонних торговых переговоров, снижать издержки и негативные последствия глобализации благодаря наработке приемлемых решений, не только в одной отдельной взятой стране, а в группе стран. Таким образом, они упрощают путь глобальной интеграции [7].
Исходя из изложенного, можно утверждать, что выявление неисследованных аспектов проблемы регионализации, а также выделение подходов к ее познанию представляют собой лишь малую часть дискуссионных моментов, которые возникают при изучении современного международного регионализма. Многомерность и сложность предмета исследования указывает на настоятельную необходимость всестороннего изучения феномена регионализации. В отличии от других исследований нами предлагается за основу взять гипотезу о позитивной роли регионализации как адекватного способа противодействия деструктивным аспектам процесса глобализации.
Объективные исследования показывают, что в современном мире национальному государству становится все труднее самостоятельно справляться с порожденными глобализацией экономическими, экологическими, социальными, научно-техническими и прочими проблемами. Облегчить эту задачу, если судить по предпринимаемым мерам отдельных стран из различных регионов мира, может объединение своих усилий в данном направлении с действиями соседних стран. Это является движущей силой притяжения к региональным сообществам в надежде, что вместе удастся более успешно противостоять возрастающим угрозам и опасностям. По мнению шведского политолога Бъерна Хеттне, «регионализм – один из способов справиться с глобальной трансформацией, поскольку большинству стран недостает сил и средств для того, чтобы одолеть такие проблемы на национальном уровне». [8]. Эту же мысль высказывает бывший премьер-министр Бельгии Г.Верхофстадт: «Ни одно государство не может считаться достаточно крупным и богатым, чтобы в одиночку противостоять глобальным вызовам» [9].
Отдельные элементы, породившие глобализм также способствуют созданию и региональных объединений. К примеру, ускорение научно-технического прогресса способствует интенсификации процессов регионализации. Качественное ускорение НТП, начавшееся в середине ХХ столетия обусловило выход многих значимых экономических процессов за национальные границы. В этой связи целый ряд видов экономической деятельности оказались нерентабельными в пределах отдельно взятой страны и остро нуждаются в больших пространствах для того, чтобы быть эффективным. К таким видам деятельности относятся информационные технологии и компьютерная техника, высокоскоростной транспорт, средства и инфраструктура телекоммуникаций и т.д. Противостояние действиям транснациональных компаний (ТНК) является дополнительной детерминантой регионализационных процессов.
Вопреки распространенному ТНК, не способствуют экономическому и научно-технологическому сближению стран, находящихся на разных этапах развития. Так как в задачи ТНК не входят передача своих технологий странам, которые они вбирают в орбиту своего бизнеса. Наоборот, они стремятся всеми средствами защищать свою интеллектуальную собственность, бренд или патент, чтобы не лишиться главного конкурентного преимущества. В целом, как отмечает исследователь Михаил Делягин «деятельность ТНК порождает ряд деструктивных процессов: - относительное обострение проблем занятости, усиление социального неравенства, торможение развития технологий, не связанных с ТНК, в том числе разрабатываемых национальными корпорациями [10]. К примеру, в Налоговом кодексе Узбекистана, предусмотрен налог на компании, которые оказывают физическим лицам услуги по размещению рекламы, предоставлению доступа к поисковым системам, ведению статистики, облачным сервисам, площадкам онлайн-торговли, услуги стриминговых сервисов. В интернет-сегменте Узбекистана такие услуги предоставляют такие компании, как Google, Яндекс, Alibaba, Netflix.
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Одним из важнейших стимулов регионализации современной миросистемы является все более явственно обнаруживающаяся ограниченность стратегических природных ресурсов. Неоспорим наблюдаемый экономический рост, начиная со второй половины ХХ в. и до настоящего времени. Однако по оценкам экспертов, человечество израсходовало около половины естественных богатств Земли. Среди них есть ресурсы, не имеющие эквивалентных заменителей. В первую очередь, к их числу относится пресная вода, без которой невозможен не только экономический рост, но и сама жизнедеятельность человечества. Особенно данный вопрос является актуальным для Центральной Азии по следующим причинам. Две главные реки бассейна — Амударья и Сырдарья, делящие свою воду в Центрально-Азиатском регионе и с другой стороны Аральским морем, что создает вместе с притоками Вахш, Пяндж, Сурхандарья, Кафирниган, Зарафшан, Нарын, Чирчик, Карадарья и другими огромную водную систему, входящую в водохозяйственный комплекс бассейна Аральского моря. Анализ водохозяйственной ситуации в регионе указывает на наличие следующих главных дестабилизирующих факторов: демографический рост и стабильность высокой доли сельского населения; низкий учет экологических требований в действующих схемах комплексного использования и охраны водных ресурсов (КИОВР) бассейнов; различные приоритеты стран в отношении совместного использования и обмена водно-энергетическими ресурсами; неопределенность, связанная с глобальным потеплением климата; неопределенность на региональном уровне относительно использования воды Афганистаном в будущем и др. [11] Без регионального сотрудничества и совместного поиска приемлемых решений по справедливому использованию трансграничных водных ресурсов регион не имеет перспектив. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций обратил внимание международного сообщества на этот вопрос, отметив, что, говоря о проблемах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, нельзя обойти такой важный вопрос, как совместное использование общих водных ресурсов региона.
Он также выразил убеждение в том, что альтернативы решению водной проблемы, учитывающему в равной степени интересы стран и народов региона, нет [12].
Поэтому Узбекистан поддерживает проекты конвенций об использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи, разработанные Региональным центром ООН по превентивной дипломатии.
На саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который прошел в Туркменистане 24 августа 2018 года президенты выразили готовность к дальнейшему совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с целью создания эффективного и устойчивого институционального механизма, способного своевременно реагировать на новые вызовы, а также в полной мере обеспечить взаимовыгодное сотрудничество в сфере реализации региональных проектов и программ, направленных на спасение Арала, экологического оздоровления Приаралья и бассейна Аральского моря, а также в области комплексного использования и охраны водных ресурсов трансграничных водотоков, водного хозяйства, энергетики и социально-экономического развития [13].
Сходная ситуация складывается и с энергетическими ресурсами. При этом важно отметить, что все они распределены по территории Центральной Азии неравномерно. Это обстоятельство порождает два принципиально значимых следствия. Страны, имеющие крупные запасы дефицитных углеводородов, могут определять региональные и в некоторой степени общемировые тенденции экономического развития. Во-вторых, в условиях возрастающего спроса на природные ресурсы, они все чаще становятся объектом самого пристального внимания со стороны мощных, но малообеспеченных ресурсами стран. По оценкам Михаеля Клаера «после Второй мировой войны постоянная погоня за природными ресурсами была скрыта под политическими и идеологическими требованиями американо-советского соперничества; окончание этого соперничества более реалистично осветило истинную картину» [14]. Подтверждением этому стали события первого десятилетия ХХ века, которые продемонстрировали со всей очевидностью, что само по себе обладание ценным сырьем еще не гарантирует процветания и безопасности страны. Для того чтобы природные богатства стали фактором социального прогресса, они должны быть надежно защищены правовым, политическим и, самое главное, военным способом. Отсюда стремление многих стран к созданию торговых, политических и военных блоков для обеспечения своей безопасности в современном глубоко конфликтном мире. Суть успешной региональной интеграции, заключается в том, что она направлена не на подавление, а на взаимное сотрудничество, на наиболее полное и рациональное использование имеющихся у сторон ресурсов, недостаточных для самостоятельного участия в глобальной конкуренции. Таким образом, интеграция стран ЦА открывает перспективы найти достойное место в новом мировом хозяйстве.
В экономической сфере регионализация имеет также свои ниши, которые создают ряд преимуществ по сравнению с основными принципами современной глобализации. Прежде всего, достижение экономических договоренностей между немногими государствами, как правило, близкими друг другу географически и исторически и ментально, есть гораздо более быстрый и менее затратный процесс, нежели установление соглашений на глобальном уровне. При этом результаты регионального сотрудничества более конструктивны, так как его участники создают друг другу наиболее благоприятные условия во взаимной торговле и миграции производственных факторов. Потребность в формировании региональных блоков обусловлена также и факторами социокультурного порядка. Диалектика социокультурных противоречий между процессами, происходящими на макро- и микроуровне, порождает необходимость регулирования и разрешения этих противоречий на каком-то пограничном промежуточном уровне. Преодоление конфликта этих разнонаправленных сил состоит в обнаружении либо созидании переходной ступени, выполняющей функцию «социального редуктора», посредника между общемировыми и местными процессами. Данный промежуточный (мезо-) уровень дает возможность приспособить глобальные тенденции к местной культурной и хозяйственной специфике, что позволяет противостоять процессам унификации и стандартизации и сохранить разнообразие социального мира, сберечь уникальность каждой из существующих культур.
Исследователи регионализма, сходятся в том, что данный феномен представляет собой формально-государственную интеграцию, его определяют как «проект, инициированный государством или государствами, нацеленный на регионализацию определенного регионального пространства в соответствии с определенными экономическими и политическими направлениями» [15].
В настоящее время запущен процесс регионализации в Центральной Азии, который представляет собой «интеграцию снизу» и является точкой отсчета практической интеграции. Первыми признаками данного явления с экономической точки зрения это начало интенсивного трансграничного взаимодействия негосударственных экономических структур, в том числе и хозяйствующих субъектов. В первую очередь сюда следует отнести: приграничную торговлю, трансграничные инвестиции, производственные сети, миграцию. Выделяют две наиболее типичные формы «интеграции снизу»: инвестиционную и «неформальную торговлю». Инвестиционная форма основана на прямых инвестициях крупных компаний и предполагает более высокий уровень экономического развития. «Неформальная торговля» – менее развитая архаичная форма, которая в основном оперирует в нелегальном секторе экономики. Второй этап интеграционного процесса в ЦА начинается примерно с начала XXI века. В этот период продолжаются попытки глав государств Центральной Азии развивать региональную интеграцию внутри региона без участия внешних сил (России, Китая) [16]. Понимание со стороны государственных структур выгод интеграции и инициативы снизу хозяйственных субъектов различной формы собственности базируются на факторах изначально делающих единым целым эти процессы. Большинство государств объединяет географическое расположение, принадлежность к тюркской группе языков (за исключением Таджикистана), общность исторических и культурных традиций, состояние социально-экономического развития и схожего социального устройства общества. Более того от бывшего СССР государства Центральной Азии получили устаревшие практические элементы водноэнергетической инфраструктуры, энергосистемы; транспортную инфраструктуру. Помимо этого достаточно схожими продолжают оставаться системы образования, науки и культуры, административного управления; культурно-политического и экономического управления, и некие основы ментальности населения, закрепленные в составе одного государства.
Все это теоретически и практически создает определенные предпосылки и возможности для развития регионального интеграционного процесса. Одновременно с общими объективными интересами и сложившимися связями в странах ЦА имеются и существенные различия по разным направлениям, которые создают серьезные противоречия и препятствия на пути к интеграции внутри региона и за его пределами.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новые независимые государства сопротивляются процессу передачи ряда полномочий на наднациональный уровень. Внутри региона сотрудничество развивается в основном на двусторонней основе. Проблема усугубляется асимметричностью развития стран региона. Существенно отличаются размеры их территорий, численность населения, наличие природных ресурсов, возможность доступа к ключевым транспортным маршрутам и др. Вышеприведенные факторы убедительно доказывают, что процесс региональной интеграции в Центральной Азии не смотря на наличие всех необходимых предпосылок не является простым действием.
Требуется тщательная и кропотливая настройка механизмов взаимовыгодной кооперации, чтобы выйти на новый уровень взаимодействия государств региона. Наблюдаемые процессы интенсификации контактов на высшем уровне, возрождение деятельности совместных инфраструктур (транспорта, энергетики, водопользования, экологии и др.), бурный рост взаимной торговли и инвестиций, а также культурно-гуманитарных связей явственно указывают, что процесс региональной интеграции выходит на новый уровень.