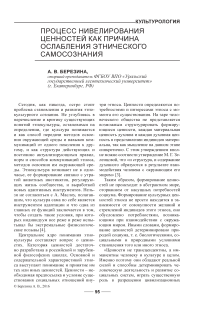Процесс нивелирования ценностей как причина ослабления этнического самосознания
Автор: Березина Анна Валерьевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Автор связывает проблему развития, становления и выживания этнокультур с раскрытием таких философских категорий, как обмен, жертва, ценность, социальные потребности, и через анализ данных категорий приходит к анализу этнокультурного развития проживающих на Урале марийцев и удмуртов.
Этническая культура, обмен, ценности, социальные потребности, этнические группы, национальный язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14723265
IDR: 14723265
Текст научной статьи Процесс нивелирования ценностей как причина ослабления этнического самосознания
Сегодня, как никогда, остро стоит проблема становления и развития этнокультурного сознания. Не углубляясь в перечисление и критику существующих понятий этнокультуры, остановимся на определении, где культура понимается и как способ передачи методов освоения окружающей среды и навыков коммуникаций от одного поколения к другому, и как структура действующих и постоянно актуализирующихся правил, норм и способов коммуникаций этноса, методов освоения им окружающей среды. Этнокультура возникает не в одночасье, ее формирование связано с утратой животных инстинктов, регулирующих жизнь сообщества, и выработкой новых адаптивных инструментов. Нельзя не согласиться с А. Маслоу, полагавшим, что культура сама по себе является инструментом адаптации и что одна из главных ее функций заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых индивидуум все реже и реже испытывал бы экстремальные физиологические позывы [4].
Центральное ядро понимания этнокультуры составляет вопрос о ценностях. Категория ценностей достаточно разработана в российской и зарубежной философских школах. Основной и содержательной характеристикой этноса выступают понимание и принятие им тех или иных ценностей. Ценности – необходимая предпосылка и условие существования социальных отношений вну- © Березина А. В., 2016
три этноса. Ценности определяются потребностями и интересами этноса с момента его существования. На заре человеческого общества не представляется возможным структурировать формирующиеся ценности, каждая материальная ценность духовна и каждая духовная ценность в представлении индивидов материальна, так как мышление на данном этапе синкретично. С этим утверждением вполне можно соотнести утверждение М. Г. Зеленцовой, что «и структура, и содержание духовного образуются в результате взаимодействия человека с окружающим его миром» [3].
Таким образом, формирование ценностей не происходит в абстрактном мире, оторванном от насущных потребностей социума. Формирование культурных ценностей этноса не просто находится в зависимости от совокупности желаний и стремлений индивидов этого этноса, оно обусловлено потребностями, возникающими при взаимодействии с окружающим миром. Иными словами, формирование ценностей детерминировано природой социума, т. е. биологическими, социальными и природными условиями становления того или иного этноса.
«Ценности не трансцендентны, а имманентны человеку и культуре в целом. Именно поэтому они обладают реальной силой и способны детерминировать человеческую деятельность и развитие социальных систем, играть существенную роль в разрешении цивилизационных
® Финно – угорский мир. 2016. № 1 кризисов» [3]. Только через осознание этнокультурных ценностей человек представляет пространство и время, течение ритма своей жизни (жизни своей нации).
Влияние формирующихся потребностей на становление ценностей происходит не напрямую, а согласно осуществляемому социумом процессу обмена (и/или жертвы) – вынужденному процессу восстановления индивидов, природы, социума, без которого их дальнейшее существование невозможно. Процессы обмена происходят на всех уровнях потребностей, представленных А. Маслоу в широко известной иерархической модели потребностей человека.
«Обмен» и «жертва» часто выступают в форме «дара». Данная тема довольно полно проработана в работах Марселя Мосса (Marcel Mauss. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques). Последний достаточно точно подметил: «Во всем содержится совокупность прав и обязанностей потреблять и возмещать, соответствующим обязанностям дарить и принимать» [5, 154 ]. И далее: «Дар, стало быть, представляет собой одновременно то, что надлежит давать, и то, что надлежит получать» [5, 254 ].
В процессе производимого обмена/ жертвы социум каждый раз на каждом новом уровне оставляет себе самое ценное, без чего существование его не представляется ему возможным как целостному этносу в данных географических, социальных и психологических условиях. Эта ценность могла проявить себя в процессе жертвоприношения богам при условии совместного ее потребления. Она выступает стержнем для ментальности данного этноса, именно от нее, как от стержня, исходят поведенческие и мировоззренческие установки этнической группы. Потеря данной ценности ведет к деградации этноса, к его неустойчивости и, следовательно, к деградации индивидов и неустойчивости их социальных характеристик. Ценности отражаются через мировоззрение, картины мира, миф. Именно картина мира характеризует коллективное сознание как наиболее важный его компонент. Проблема нравственной ориентации в социальном пространстве и времени решается через картину мира, существующую в социуме, которая выполняет функции генетической памяти.
Рассмотрим данную теорию на примере становления и развития двух в данный момент интересующих нас этносов финно-угорской группы, проживающих в Предуралье и на Урале: удмуртов и марийцев.
Самоназвание народа мари (marij, mar э ) первоначально употреблялось в значении «человек, мужчина», которое сохранилось до сих пор [9], а также представлено в названиях мелких территориальных групп, например «выт-ля мари» (марийцы, осевшие на р. Вет-луге) [8]. Данное слово заимствовано из иранского языка [6]. Складывание древнемарийской народности началось в VII–VI вв. до н. э. Как отмечают исследователи, в основе марийской мифологии лежит абсолютное тождество материального и идеального, бытия и сознания [11]. Пантеизм марийского язычества заключается в представлении, что божества, весь окружающий мир и сам человек являются частью единого бога. Человек несет ответственность не только за себя, но и за все, что его окружает. Модель мира марийского народа представляет собой одухотворенную природу. Этому посвящены религиозные обряды с жертвоприношением, это накладывает отпечаток на ведение охоты, сбор ягод, заготовку дровяных запасов на зиму. Мариец никогда не возьмет себе больше, чем необходимо. Он всегда чувствует обязанность возврата взятого у природы. Как отметил М. Мосс, «даваемая вещь возмещается в этой жизни и в другой. Здесь она автоматически порождает для дарителя такую же вещь: она не потеряна, она воспроизводится; там это та же вещь, которую обретают вновь, причем с прибавкой. Земля, которой вы сделали дар, производит урожай для других, она увеличивает вашу прибыль в этом и ином мирах и в будущих рождениях» [5, 247–248 ].
Данные представления, входящие в картину мира, отражают весь предшествующий и актуально существующий общественно-исторический социокультурный опыт. Религия, сказки и сказания, впитывая социокультурные ценности, становятся формой выражения культурной и народной самобытности. В зависимости от существующих географических, социальных, биологических и психологических взаимосвязей происходит формирование ценностной составляющей культурного ядра марийского этноса. Марийцы Урала всегда проживали в соседстве с тюркскими народами. Мирное соседство периодически сменялось военными набегами. Кочевые племена башкир, неожиданно возникавшие в военных доспехах, неминуемо одерживали победу над находящимися вдали друг от друга марийскими поселениями. Спасение было только в бегстве. Поэтому марийцы не строили постоянного жилища, главной ценностью для них была община как единая семья. Жизнь общины – наиболее важная ценность, а защиту можно найти только у лесных духов, которых необходимо задобрить, принести им жертву, дар.
Для примера приведем две сказки марийского и русского народов на однотипный сюжет, но с диаметрально противоположным подходом к разрешению ценностного вопроса: «Заячий домик» и «Лубяная избушка». Если в русской народной сказке главной ценностью выступает дом, место проживания (в дальнейшем эпосе – земля, за которую можно отдать жизнь не только свою, но и народа), то в марийском эпосе дом покидается во имя сохранения жизни зайчика – не как отдельного существа, а как символизирующего жизнь целого семейства, рода.
Таким образом, родовые связи марийцев становятся центром их ценностного мировоззрения. Понимание добра, зла, верности, предательства проходит через призму семейных, общинных и родовых связей. Именно эти ценности отражены в марийском песенном творчестве, в языковой культуре и эпосе.
Разрушение родовых связей либо методом наложения «общекультурных» ценностей, либо пропагандой мобильности в глобализирующемся мире ведет к деградации марийской культуры, а вместе с тем и к девиантному поведению ее представителей (пьянство, наркомания, неустойчивые социальные связи, трудности с самоопределением).
Большую роль в закреплении и становлении этнокультурных ценностей играет язык. В настоящее время в марийском языке различаются четыре основных диалекта: луговой, горный, восточный и северо-западный, на базе которых сложились две литературные нормы – луговая и горномарийская. Язык является основным критерием, на основании которого марийцы оценивают различия между региональными, этнографическими группами своего народа.
Наличие двух литературных норм и их особенности являются результатом противоборства нескольких группировок и личностей, исповедовавших различные политические взгляды, имевших различные формы регионального и национального самосознания. На протяжении первых десятилетий языкового строительства на процесс формирования литературного языка в разной степени оказывали воздействие русификаторская и миссионерская, а позже коммунистическая идеология СССР, научные взгляды персональных участников процесса, принадлежавших к разным языковедческим школам, и диалектные, региональные ориентации участников процесса.
Период 1920–1930-х гг. называют периодом «языкового строительства» или временем реализации программы марийского языка. Этот период характеризуется активной научной и практической работой по принятию норм литературного языка, выпуском словарей, учебников, продолжением работы по созданию новых слов, начатой еще в «Марла календарь» (1907–1913). В 1938 г., после устранения в ходе репрессий 1937 г. всех основных и принципиальных участников «языкового строительства», про-
® Финно – угорский мир. 2016. № 1 шла языковая реформа, нивелировавшая почти все главные достижения прежних лет, основные принципы, заложенные в «Марла календарь». Марийский язык был приближен к русскому языку: вместо своих неологизмов были введены слова из русского языка, алфавит и многие правила были оформлены в соответствии с внутренними законами русского языка.
Такое положение дел подрывает дальнейшее формирование целостной этнической культуры, порождает проблемы становления и развития самосознания. Показателен в этом плане пример1, приводимый Эриком Юзыкайном в работе «Некоторые аспекты информационной среды марийцев» [10]. Известно, что проживающие в Свердловской области марийцы изучают марийский литературный язык как иностранный. Многое из него им непонятно и трудно усваиваемо.
Языковые заимствования происходят всегда и везде, сопутствуя указанным нами выше процессам обмена. Опасность представляют не те заимствования, которые приходят с новыми вещами, новыми услугами, а те, которые несут новые ценности. Процесс формирования литературного языка не может не идти «сверху». Вопрос в другом: какими целями и задачами руководствуются те, кто стоит у основания языкового строительства, какие ценности туда закладываются, всем ли понятны эти ценности, не яв- ляются ли они чужеродными данному этносу?
Параллельно становлению марийского этноса шло становление удмуртского. Основой для формирования древних удмуртов послужили автохтонные племена Волго-Камья. В 1489 г. северные удмурты вошли в состав Русского централизованного государства. Южные удмурты попали под власть Волжско-Камской Булгарии, позднее – Золотой Орды и Казанского ханства, а с падением последнего вошли в состав Русского государства. Если северные удмурты оказались в его составе в конце XV в . , то южные – в середине XVI в.
В результате присоединения земель, населенных этническими группами, позже составившими удмуртский этнос, социальный строй данных групп своеобразно трансформировался: развитые феодальные отношения наложились как бы сверху, внутри же этнических групп еще долго продолжали сохраняться структурообразующие единицы иного социально-экономического порядка ( веме – формы коллективной взаимопомощи родственников, кенеш – общинный сход, воршуд – социально-культовое объединение, ведущее свое происхождение еще от тотемической эпохи, и т. д.). Основной социальной ячейкой традиционного удмуртского общества была поземельная соседская община ( бускель ). Община обычно состояла из нескольких объединений родственных семей. При преобладании малых семей сохранялись большие неразделенные семьи. Такая семья имела общее имущество, земельный надел, вела совместное хозяйство, жила на одной усадьбе. При разделе отделившиеся селились по соседству, образуя родственные гнезда ( бoляк, иська-вын ), сохранялись некоторые элементы общего хозяйства (болячные поля, гумна, бани).
Незавершенность форм социальной организации, многоукладность в системе хозяйствования создавали множество противоречивых проблем в развитии средневекового удмуртского обще- ства. Можно утверждать, что с середины 2-го тысячелетия был прерван обусловленный и определявшийся преимущественно внутренними факторами ход исторического развития, с этого времени доминирующую роль стало играть внешнее воздействие. Вместе с тем вхождение удмуртского народа в состав централизованного Русского государства имело в исторической перспективе прогрессивное значение: ускорился процесс социально-экономического развития, все группы оказались в рамках единого государства [1, 15].
С приходом к власти большевиков, казалось, национальный вопрос стал решаться в пользу малочисленных народов. 4 ноября 1920 г. декретом ВЦИК и СНК за подписью В. И. Ленина и М. И. Калинина в составе РСФСР была образована Вотская автономная область, в состав которой вошли северные и южные удмурты, а после переписи населения в 1926 г. и бесермяне были причислены к удмуртскому этносу. В 1932 г. Вотская автономная область была переименована в Удмуртский АО, в 1934 г. – преобразована в Удмуртскую АССР. Особый интерес в данном случае представляют бесер-мяне. Они упоминаются с 1184 г. Эта этническая группа отличается от удмуртов антропологически, а также некоторыми элементами материальной, языковой и духовной культуры [7].
Сегодня стоит «говорить о сложных формах религиозного синкретизма среди удмуртов, о двух уровнях бытования религии: в домашней среде – древние формы верований, в официальной – христианство. Сохранились отдельные деревни (южные и периферийные удмурты), которые не приняли христианства, некоторые из них перешли в суннитский ислам и тюркизировались. В последние годы в Удмуртии, как и в некоторых других регионах, появились попытки возрождения неоязычества и новомодные религиозные течения (“Вера Бахай», “Общество Дианетики”, “виссарионовцы” и др.), однако они, особенно последние, не пользуются особой популярностью» [1, 24 ].
Дореволюционное удмуртское письмо, построенное в основном на фонетических вариантах разных диалектов, не могло последовательно выдержать орфографического единства. Не было и графического единства: до революции удмуртский алфавит колебался от 32 до 48 букв. Что касается удмуртской художественной литературы, то она до революции только начала зарождаться именно благодаря появлению письменности. Заметного воздействия на развитие литературного языка она не могла оказать.
Литературный язык – это обработанная форма общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами. «Донациональный удмуртский язык в дореволюционных условиях не успел сформироваться как литературный. <…> Окончательное формирование литературного удмуртского языка начинается в предреволюционные годы и заканчивается в советских условиях» [2].
Итак, несмотря на существование национальных школ, выпуск учебников, внимание к проблемам национальностей и национальному вопросу, в России проблема национального языка остается острой. Практически искусственно созданные литературные языки на основе русской письменности начинают свою жизнь с переводом на марийский и удмуртский языки произведений советских и русских классиков. Марийская и удмуртская литература создается по подобию советского классицизма. То, что, казалось бы, должно скреплять этнос, помогать развитию национального самосознания, сегодня его разрушает, так как накладывается сверху, а не естественным ходом событий, выражает не этнокультурные ценности, а ценности титульной нации.
О ценностях говорят только на своем, родном, языке, потому что они там заложены в самой его грамматической структуре. Привнесением с инородным тезаурусом чуждых этносу ценностей, зародившихся на инородной почве, мы получаем размытие ценностного мира, его несо-
® Финно – угорский мир. 2016. № 1 гласованность. Язык не должен формироваться как надстроечный пласт по отношению к этнокультурным ценностям, он должен исходить из них.
Итак, решение проблемы становления культур финно-угорских народов на Урале, где титульной нацией является русский этнос, мы видим в первую очередь в обращении к исконным ценностям народа: в укреплении семьи в самом широком смысле этого слова, непосредственном взаимодействии с природой как частью себя и своей семьи. Именно эти ценности пронизывают верования, приближая их к натурфилософским взглядам, музыкальное и песенное творчество.
Список литературы Процесс нивелирования ценностей как причина ослабления этнического самосознания
- Владыкин, В. Е. О себе и других, о народах и Человеках, и../В. Е Владыкин. -Ижевск: Удмуртия, 2003. -400 с.
- лет удмуртской письменности: сб. ст. -Ижевск: УдНИИ, 1976. -160с.
- Зеленцова, М. Г. К критике дуалистической теории ценностей в современной философии//Философия и общество. -2010. -Вып. 2(58). -С. 77-90.
- Маслоу, А. Мотивация и личность/А. Маслоу; пер. А. М. Татлыбаевой. -Санкт-Петербург: Евразия, 1999. -480 с.
- Мосс, М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социльной антропологии/М. Мосс. -Москва: КДУ, 2011. -416 c.
- Напольских, В. В. Введение в историческую уралистику/В. В. Напольских. -Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1997. -268 с.
- Письменные языки мира: Языки Российской Федерации: социолингвистическая энциклопедия. -Кн. 1. -Москва: Academia, 2000. -651 с.
- Смирнов, И. Н. Черемисы: историко-этнографический очерк/И. Н. Смирнов. -Казань: Типография Императорского университета, 1889. -212 с.
- Хайду, П. Уральские языки и народы/П. Хайду. -Москва: Прогресс, 1985. -432 с.
- Юзыкайн, Э. Некоторые аспекты информационной среды марийцев . -Режим доступа: http://www.suri.ee/r/mari/erik/infsr3112.html. -Дата обращения 10.12.2014.
- Ямурзин, А. А. Картина мира марийского язычества: социальные аспекты: автореф. дис. … канд. филос. наук/А. А. Ямурзин. -Уфа, 2007. -18 с.