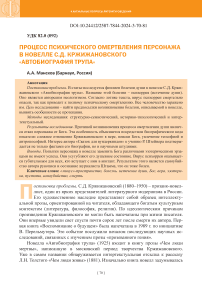Процесс психического омертвления персонажа в новелле С.Д. Кржижановского "Автобиография трупа"
Автор: Мансков А.А.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Актуальные вопросы литературоведения
Статья в выпуске: 3 (28), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В статье исследуется феномен болезни души в новелле С.Д. Кржижановского «Автобиография трупа». Название этой болезни - психоррея (истечение души). Оно является авторским неологизмом. Согласно логике текста, вирус психорреи смертельно опасен, так как приводит к полному психическому омертвлению. Все человечество заражено им. Цель исследования - найти предпосылки возникновения болезни, описываемой в новелле, выявить особенности ее протекания.
«минус»-пространство, болезнь, истечение души, бог, вера, эзотерика, пустота, самоубийство, смерть
Короткий адрес: https://sciup.org/144163246
IDR: 144163246 | УДК: 82.0 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-3-70-81
Текст научной статьи Процесс психического омертвления персонажа в новелле С.Д. Кржижановского "Автобиография трупа"
П остановка проблемы . С.Д. Кржижановский (1880–1950) – прозаик-новеллист, один из ярких представителей литературного модернизма в России. Его художественное наследие представляет собой образец интеллектуальной прозы, ориентированной на читателя, обладающего богатым культурным контекстом (литература, философия, религия). По идеологическим причинам произведения Кржижановского не могли быть напечатаны при жизни писателя. Они впервые увидели свет спустя почти сорок лет после смерти их автора. Первая книга «Воспоминание о будущем» была напечатана в 1989 г. по инициативе В. Перельмутера. Это событие послужило началом последующих научных исследований, связанных с изучением прозы «прозеванного гения».
Новелла «Автобиография трупа» (1925) входит в книгу прозы «Чем люди мертвы», написанную в московский период творчества Кржижановского. Уже в самом названии обнаруживается интертекстуальная отсылка к рассказу Л.Н. Толстого «Чем люди живы» (1881). Изначально книга новелл задумывалась как возможность литературной полемики писателя с русским классиком, опровержения его религиозных максим. Кржижановский стремился продемонстрировать своему литературному предшественнику глубину экзистенциальных состояний, переживаемых им, значимость его духовных ориентиров1.
Автор считал новеллу одним из самых значительных своих произведений2. В ней он сумел показать широкий диапазон противоречий и переживаний человека, утратившего духовную опору в стремительно меняющемся мире (Первая мировая война, две революции). Предпосылкой для этого во многом стал известный постулат Ф. Ницше о смерти Бога. Это событие пошатнуло формировавшиеся столетиями мировоззренческие основы и явилось причиной кризиса морали и религии. Разочаровавшись в вере, многие мыслители искали ответы на философские вопросы в эзотерических учениях: теософия, антропософия и др. Стремление персонажа в новелле обрести истину является иллюстрацией обозначенной идеи Ницше.
Обзор литературы . Изучение новеллы началось с работы В.Н. Топорова «“Минус-пространство” Сигизмунда Кржижановского»3. По мнению исследователя, «(…) “Автобиография трупа” – одно из наиболее характерных произведений Кржижановского о “минус-пространстве”, о том, как омертвляется пространство жизни, и о том, как сама жизнь связана с пространством и зависит от него».
Под особым углом зрения (в контексте литературоведения и философии) исследуется новелла в диссертации В.В. Горошникова «Экзистенциальная проблематика прозы Сигизмунда Кржижановского». «В “Автобиографии трупа” воспроизведена экзистенциальная онтология Кржижановского, где черты бытия проступают через противостояние жизни и смерти. Эта борьба, начинающаяся в душе конкретного человека, вливается в бури социальных потрясений – войны и революции» [Горошников, 2005, с. 103].
Изучением антропологического кризиса на событийном, нарративном и рецептивном уровнях художественной структуры в новелле «Автобиография трупа» занимается С.П. Лавлинский [Лавлинский].
В диссертации И.В. Луниной «Художественный мир новелл С.Д. Кржижановского: человек, пространство, коммуникация» на материале новеллы рассматриваются женские персонажи в текстах писателя. Посредством исследования телесных характеристик исследователем воссоздается портрет персонажа (девочки, си мволизирующей собой жизнь) [Лунина, 2009].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
Е.Г. Трубецкова занимается проблемами органов зрения в художественном мире Кржижановского. В своих работах она апеллирует к новелле «Автобиография трупа» [Трубецкова].
В.Н. Карпухина изучает прозу С.Д. Кржижановского на стыке литературоведения и лингвистики. В статье «Семиотика пространства в переводах текстов М.А. Булгакова и С.Д. Кржижановского на английский язык» [Карпухина, 2020, с. 218-230] исследуется новелла «Автобиография трупа». Обозначенной тематике посвящены статьи «“Минус”-пространство Сигизмунда Кржижановского и “плюс”-пространство Михаила Булгакова в переводах их текстов на английский язык» [Карпухина, 2016, с. 132-136], «Пространственные характеристики текстов М. Булгакова и С. Кржижановского и их переводов на английский язык» [Карпухина, 2016, с. 110–117].
Все это свидетельствует о научно-исследовательском интересе к новелле С.Д. Кржижановского «Автобиография трупа».
Актуальность статьи определяется впервые предпринимаемым целостным подходом к изучению процесса психического омертвления персонажа, вызванного вирусом психорреи (истечением души) в новелле «Автобиография трупа». До сих пор в российском и зарубежном литературоведении не рассматривались предпосылки возникновения этого явления, а само оно осмыслялось как сложившаяся данность.
Цель статьи - изучение болезни души, от которой страдает персонаж в новелле: выявление причин ее возникновения, рассмотрение особенностей протекания и последствий. Значимым является исследование рассматриваемого феномена в контексте мировоззренческих взглядов писателя: уход от веры, увлечение эзотерическими учениями4. Такой подход позволяет выйти на новый уровень в осмыслении художественного мира Кржижановского и понимания его авторского замысла. Анализ новеллы в свете христианских коннотаций определяется биографическим кодом писателя и внутренней логикой исследуемого текста.
Методологическую основу составили работы представителей отечественного и зарубежного литературоведения: тартуско-московской семиотической школы (Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Б.М. Гаспарова, В.Н. Топорова). В связи с исследованием интертекстуальности нами использовались труды М.М. Бахтина, Ю. Кристевой, Р. Барта, И.П. Смирнова.
Методы исследования: структурно-семиотический, историко-типологический и интертекстуальный.
Результаты исследования . В новелле представлены две сюжетные линии: журналиста Штамма, приехавшего из провинции покорять Москву, поселившегося в комнате 24, и самоубийцы, жившего до этого момента в той же комнате. Основное действие новеллы является содержанием рукописи (автобиографии трупа), оставленной прежним жильцом комнаты Штамму. Рукопись, найденная в дверной петле, состоит из трех логически законченных частей: это три ночи, предшествующие самоубийству. Три ночи включают в себя несколько лет жизни таинственного Х: от юности (студенческая пора) до зрелости (Гражданская война, революция).
В рукописи изображается процесс психического омертвления человека. Уже в начале рукописи персонаж приходит к осознанию того, что для него утрачен смысл жизни. С этого дня, помню, и начался период мертвых, пустых дней. Они и раньше приходили ко мне. И уходили. Сейчас же я знал: навсегда [Кржижановский, 2001, с. 515]. Обратим внимание на словосочетание «период мертвых пустых дней». Это словосочетание очень точно передает характер категории «время» в художественном мире новеллы. Свое мироощущение будущий самоубийца транслирует на все, что окружает его, поэтому время приобретает новый темпоритм. Оно утрачивает свою жизненность и наполненность, конечные точки которых « мертвь » и молчь . Эта ситуация напоминает собой смерть поэзии в новелле Кржижановского «Бог умер», когда при внешней неизменности происходящего ощущается безысходность и неизбежность конца. (…) ничто не шевельнулось: все было там, где было и так, как было. Но из всего - пустота: будто кто-то, коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив у глаз одни мертвые линейные обводы. Было все, как и раньше, и ничего уже не было [Кржижановский, 2001, с. 258].
Как и в «Автобиографии трупа», в новелле «Бог умер» повторяются образы всепоглощающей пустоты и общего омертвления. При этом в обеих новеллах персонажи в силу различных причин являются самоубийцами и осознают то, что они не в состоянии изменить ход вещей. Подтверждение этому - повторяющееся высказывание персонажа навсегда в новелле «Автобиография трупа» и мысль поэта Ренье: (…) поэзии нет. И не будет. Никогда [Кржижановский, 2001, с. 258].
Взгляд персонажа на мир поражает своим пессимизмом и безысходностью. Классификация скук наглядно иллюстрирует состояние его души. Много их, скук: есть вешняя скука, когда одинаковые любят одинаковых, земля в лужах, а деревья в зеленом прыще. А есть и череда нудных осенних скук, когда небо роняет звезды, тучи роняют дожди, деревья роняют листья, а «я» роняют себя самих [Кржижановский, 2001, с. 515]. Атмосфера мучительной тоски усиливается далее в тексте. Стекла были в дождевом брызге. Но и сквозь брызг было видно, как деревья в саду, под ударами ветра, мерно раскачиваются, точно люди, мучимые зубною болью [Кржижановский, 2001, с. 515].
Оконные стекла с каплями дождя на них («дождевой брызг») семантически продолжают образ стекол пенсне с прилипшими к ним «пылинами» («осевшими
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
на стеклистых вгибах»). Здесь снова происходит уравнивание внешнего и внутреннего мира, их тождество. Сравнение деревьев с людьми, мучимыми зубной болью, показывает глубину переживаний персонажа. Он соотносит себя с деревом, которое видит из окна комнаты. А иногда и я, как дерево, мучимое ветром, мерно раскачивался меж дубовых ручек кресла в ритм нудным качаниям мысли [Кржижановский, 2001, с. 515].
При рассмотрении этих фрагментов в христианском контексте становится очевидной причина душевного недомогания персонажа. Все начинается с того, что он утрачивает связь с Богом. От своей самости (гордыни) персонаж испытывает чувство уныния. Мир кажется ему полным тоски и печали. К этому еще добавляется чувство одиночества и ненужности.
Находясь в состоянии уныния, персонаж начинает сопоставлять мир живых и мертвых. (…) тем, мертвым, маячила мысль: хорошо. Чуть закостенели – сверху крышка: поверх крышки – глина: поверх глины – дерн. И все. А тут – как закачался на дрогах, так и повезут тебя, так и повезут с ухаба на ухаб, сквозь весны и зимы, из десятилетий в десятилетия, неоплаканного, ненужного [Кржижановский, 2001, с. 515].
В православии грех уныния является смертным, одним из тягчайших грехов. Он символизирует собой полное неприятие Божьей воли. Размышления персонажа о смерти поражают своим цинизмом. Будущий самоубийца отвергает веру и не нуждается в церковных таинствах. Это проявляется в его добровольном отказе от причастия и отпевания: повезут неоплаканного . Кощунственным кажется и сомнение в существовании бессмертной души. В размышлениях о неудавшемся свидании персонажа встречается логическое допущение о ее исчезновении. Мне не совсем понятно, как могло душу, если тогда она еще была у меня, этакой пылинкой придавить и разбездушить [Кржижановский, 2001, с. 516].
Значимость другого человека для него сводится к нулю. Это подтверждает сравнение происшествия, случившегося с ним, с пылинкой (нивелирование события). Наряду с этим персонаж сомневается в бытии Бога. Эта мысль обнаруживается и далее в тексте, это идея «жить в дательном падеже»: Mне: хлеба, самку, покоя и царствьица б небесного. Если есть. И можно... [Кржижановский, 2001, с. 530]. В этом фрагменте автор обыгрывает символику числа три в православии. Вместо святой Троицы он демонстрирует желания персонажа, нивелирующие идею веры как таковую.
Вся автобиография трупа представляет собой оправдание персонажем себя: своего эгоизма и безверия. Попытки спрятаться за научными штудиями (диссертация «О букве “Т” в тюркских языках», филология «я», математическая логика) - прямое доказательство этому. В этом случае интерес вызывает размышление персонажа о местоимении «я». Кстати, при подсчете слова «ich» у Штирнера оказалось: под «ich» ушло почти 25 % текста (если считать все производные). Этак еще немного – и весь текст зарастет сплошным «я» [Кржижановский, 2001, с. 530].
Упоминание анархиста Штирнера не случайно в тексте, однако здесь обнаруживаются и другие смыслы. За фигурой Штирнера может скрываться образ немецкого философа Рудольфа Штейнера, идеи которого повлияли на Кржижановского в киевский период его жизни5. Рудольф Штейнер является создателем эзотерического учения - антропософии, возникшей на основе европейской теософской доктрины. Сам философ обозначал свое учение как науку о духе и духовном мире. Отвергая современные философские и научные концепции, Штейнер провозглашал свое видение мира единственно подлинным. Его работы стали манифестом человеческой самости, так как в них он ставит человека выше Бога, не отвергая при этом высшее начало. Религиозные представления Штейнера радикально отличаются от традиционного христианства и могут показаться верующим людям кощунственными. Наиболее часто повторяющееся слово в его работах - местоимение «я», так как оно является центральным понятием антропософского учения.
Религиозно-философские представления персонажа в новелле совпадают с мировоззренческой концепцией Рудольфа Штейнера. Отсылка к антропософской доктрине может интерпретироваться как имплицитный диалог Кржижановского с немецким мыслителем6. В новелле «Автобиография трупа» персонаж делает акцент в познании мира на научном объяснении явлений действительности. В этом он следует по стопам немецкого мыслителя, всегда акцентировавшего научный характер антропософского учения. Влиянием Штейнера
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
является и осознание самоубийцей себя самого как центра мира. Однако в такие нестабильные периоды, как Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война, упоминаемые в тексте, наука является недостаточной духовной опорой. Будучи неверующим человеком, обитатель комнаты № 24 ощущает экзистенциальный страх перед жизнью. Результатом этого становится уход в эзотерику и псевдонауку7. Отсутствие веры в Бога объясняет пустоту в душе персонажа, ее постепенное психическое омертвление.
В своих логических построениях будущий самоубийца стремится к объяснению феномена пустоты. Для него это явление оказывается связанным с визуальным восприятием реальности, проникновением за границу «стекл», т.е. вовне . В качестве примера он приводит высказывание на латыни «Природа боится пустоты», переворачивая его и изменяя смысл античной сентенции. Попытки проникнуть в мир, начинающийся по ту сторону моих двояковогнутых овалов, и раньше были редки и робки. Теперь-то я знаю, отчего если формула natura horreat vacuum опровергнута, то обращение ее – vacuum horreat natura еще и не было под ударами критики. Думаю: оно их выдержит. Так или иначе, я прекратил всякие попытки войти в свое в н е [Кржижановский, 2001, с. 516].
Удивительно, что та же самая мысль занимала Кржижановского и прежде. Игра с латинской максимой обнаруживается и в новелле «Бог умер», изображающей гибель мира, в силу растущей в нем пустоты («Ничто»). Происходило то, чему и должно было произойти: был Бог - не было веры; умер Бог - родилась вера. Оттого и родилась, что умер. Природа не «боится пустоты» (старые схоласты путали), но пустота боится природы: молитвы, переполненные именами богов, если их бросить в ничто, несравнимо меньше нарушат его нереальность [Кржижановский, 2001, с. 263]. Эти цитаты демонстрируют мировоззренческую позицию Кржижановского, сложное отношение писателя к вере. Утратив ее, он не мог обрести ее снова. Его метания от эзотерики теософских доктрин и штейнерианства к научному атеизму не дали ему устойчивой духовной опоры. Здесь очевидно сходство автора и персонажа. Подтверждение этому - записные книжки и дневники писателя, где иронически осмысляется природа веры и самым частотным образом является смерть8.
От размышлений о местоимении «я», отсылающих сознание читателя к антропософской доктрине, в тексте осуществляется переход непосредственно к описанию болезни персонажа. Имя ей – психоррея.
Это слово является авторским неологизмом и представляет собой процесс постепенного психического омертвления человека. Психоррея – следствие душевной пустоты самоубийцы и отсутствия веры. По логике текста, божественный свет не может проникнуть в душу персонажа, а он, в свою очередь, дотянуться до абсолюта, так как границу невозможно перейти ни в одну, ни в другую сторону.
Во фрагменте, связанном с описанием земных скук, обнаруживается косвенная отсылка к явлению болезни души. (…) небо роняет звезды, тучи роняют дожди, деревья роняют листья, а «я» роняют себя самих [Кржижановский, 2001, с. 515]. Через семантику падения явление психорреи эксплицируется и далее. И всякий раз мне ясно было слышимо, как в пустоту, с тонким и острым звоном, капля за каплей, – душа. Капли были мерны и звонки, и был в них все тот же знакомый стеклистый звук. Может быть, это была псевдогаллюцинация, не знаю: мне все равно. Но тогда я назвал этот феномен особым словом: п с и х о р р е я. Что значит: истечение души [Кржижановский, 2001, с. 516].
Введение психорреи в структуру текста осуществляется посредством ауди-ального кода: мне ясно было слышимо . Здесь повторяется образ пустоты, в которую происходит истечение души. Кржижановский намеренно обращается к используемым им ранее образам: неудавшееся свидание персонажа. Речь идет о пенсне ( с тонким, острым звоном упали на ковер [Кржижановский, 2001, с. 514]). Общим является звукообраз (тонкий острый звон ) и прилагательное стеклистый , лейтмотивом повторяющееся на протяжении всего текста. Все это соединяет смысловые элементы в новелле вместе, придавая им ощущение целостности. Звучание падающих капель, слышимое персонажем, представляет собой не столько аномальное восприятие, сколько обман чувств, так как в этом случае речь идет о явлениях, не существующих в действительности. Не случайно он сам называет их «псевдогаллюцинацией», «псевдозвуком». Иногда этот мерный – капля за каплей – лет в пустоту даже пугал меня. Я зажигал свет и прогонял и сумерки, и псевдозвук прочь [Кржижановский, 2001, с. 518].
Образ падающих капель необычным образом осмысляется в контексте теории психорреи. От частного случая она приобретает масштабный характер. Психоррея оказывается вирусом болезни, которой подвержено все человечество. Осознание этого факта изменяет представление о мире у персонажа. Я не подозревал, что процесс психического омертвления мог быть ползучим – из черепа к черепу, с особи на группу, с группы на класс, с класса на весь общественный организм. Пряча свое полубытие за непрозрачными стенками черепа, тая его, как стыдную болезнь, я не учел того простого факта, что то же могло происходить и под другими черепными крышками, в других защелкнувшихся друг от друга комнатах [Кржижановский, 2001, с. 521].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
Именно в этом случае актуализируется образ капель, известный читателю из бредовых видений персонажа. Как и всегда, автор подбирает методологическую основу для своих суждений, чтобы придать им характер достоверности. Опорой для этого является работа Герберштейна. Совсем недавно, перелистывая «Rerum Moscoviticorum Commentarii» Герберштейна, посетившего Россию в первые годы XVI века, я отыскал такое: «...иные же из них, – пишет наблюдательный чужестранец, – производят имя своей страны от арамейского слова Ressaia или Resessaia, что означает: разбрызганная по каплям » [Кржижановский, 2001, с. 521]. Согласно логике персонажа, Россия всегда была страной, в которой жили люди, страдавшие истечением души, и именно они мыслили и заставляли мыслить Россию как Ressaia: в разбрызге розных друг другу капель [Кржижановский, 2001, с. 521].
Выводы . Исходя из логики статьи, можно сделать следующие выводы. В сознании персонажа в новелле происходят патологические психические деформации. Он сам стремится определить характер своего душевного расстройства. Будущий самоубийца обозначает его как психическое омертвление, вызванное вирусом психорреи. Страдающий истечением души оказывается не в состоянии выявить предпосылки собственной болезни. Он ощущает их и замечает проявления болезни у других: размышления о Штирнере - Штейнере и осмысление России как страны, разбрызганной по каплям. При этом главная причина кроется в отсутствии веры как духовно-нравственной опоры. Попытки ее замены эзотерическими и псевдонаучными эрзацами (теософия, антропософия) лишь усугубляет его душевное состояние, и он теряет путь в метафизических лабиринтах. Результатом этого становится самоубийство автора рукописи, а журналист Штамм, прочитав ее, осознает, что он уже не будет прежним.
Список литературы Процесс психического омертвления персонажа в новелле С.Д. Кржижановского "Автобиография трупа"
- Валентинов Н. Брюсов и Эллис // Валентинов Н. (Н. Вольский). Два года с символистами. М.: Издательский дом XXI век - Согласие, 2000. 381 с.
- Воробьева Е.И. Жанровое своеобразие творчества С.Д. Кржижановского: дис.... канд. филол. наук. М., 2002. 200 с.
- Горошников В.В. Экзистенциальная проблематика прозы Сигизмунда Кржижановского: дис.... канд. филол. наук. Ярославль, 2005. 178 с.
- Карпухина В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского и «плюс»-пространство Михаила Булгакова в переводах их текстов на английский язык // Язык и культура: сб. ст. XXVI международной научной конференции. Томск: Изд-во ТГУ, 2016. С. 132-136.
- Карпухина В.Н. Пространственные характеристики текстов М. Булгакова и С. Кржижановского и их переводов на английский язык // Филология и человек. 2016. № 3. С. 110-117.
- Карпухина В.Н. Семиотика пространства в переводах текстов М.А. Булгакова и С.Д. Кржижановского на английский язык // Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: диалог с современностью: кол. монография. СПб., 2020. С.218-230.
- Кржижановский С.Д. Соч.: в 6 т. СПб.: Symposium, 2001. Т. 1. 687 с.
- Кржижановский С.Д. Соч.: в 6 т. СПб.: Symposium, 2001. Т. 2. 702 с.
- Кржижановский С.Д. Соч.: в 6 т. СПб.: Symposium, 2010. Т. 5. 640 с.
- Лавлинский С.П. Позиция нарратора и читателя в повести Сигизмунда Кржижановского «Автобиография трупа». URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/pozitsii-narratora-i-chitatelya-v-povesti-sigizmunda-krzhizhanovskogo-avtobiografiya-trupa (дата обращения: 06.08.2024).
- Ливская Е.В. Эзотерическая составляющая ранней прозы С.Д. Кржижановского: текст как часть посвятительного ритуала. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/ezotericheskaya-sostavlyayuschaya-ranney-prozy-s-d-krzhizhanovskogo-tekst-kak-chast-posvyatitelnogo-rituala (дата обращения: 06.08.2024).
- Лунина И.В. Художественный мир новелл С.Д. Кржижановского: человек, пространство, коммуникация: дис.... канд. филол. наук. Красноярск, 2009. 166 с.
- Мансков А.А. Поэтика «Музыкальных новелл» С.Д. Кржижановского: интертекстуальный аспект: дис.... канд. филол. наук. Барнаул, 2007. 203 с.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс - Культура, 1995. 624 с.
- Трубецкова Е.Г. Мотив деформации зрения в новеллах С.Д. Кржижановского // Русская литература XX-XXI веков как литературный процесс (проблемы теории и методологии изучения): матер. VI Международной научной конференции, Москва 18-19 декабря 2018 г. М.: Макс Пресс, 2018. С. 145-149.
- Трубецкова Е.Г. Мир как «дочка зрения»: опыты «Остранения» Сигизмунда Кржижановского. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mir-kak-dochka-zreniya-opyty-ostraneniya-sigizmunda-krzhizhanovskogo (дата обращения: 06.08.2024).