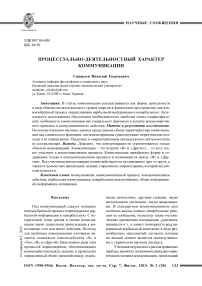Процессуально-деятельностный характер коммуникации
Автор: Санакуев Николай Георгиевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 2 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье коммуникация рассматривается как форма деятельности в виде обмена сигналов высокого уровня энергии в физическом пространстве, как взаимообратный процесс перекодировки вербальной информации в невербальную. Актуальность исследования обусловлена необходимостью наиболее полно охарактеризовать особенности коммуникации как социального феномена в аспекте коммуникативного процесса и коммуникативного действия. Методы и результаты исследования. На основе изучения научных данных представлена общая характеристика коммуникации как социального феномена, систематизированы существующие теоретические подходы к ее определению. Выделена и охарактеризована процессуально-деятельностная ее составляющая. Выводы. Доказано, что коммуникация не ограничивается только обменом информацией. Коммуникация - это встреча «Я» и «Других», - то есть тех, кто участвует в коммуникативном процессе. Коммуникация приобретает форму и содержание только в коммуникационном процессе и налаживается между «Я» и «Другим». Все участники коммуникации взаимодействуют не изолированно друг от друга, а также от ценностных ориентаций, знаний, стереотипов, мировоззрения, восприятия действительности.
Коммуникация, коммуникативный процесс, коммуникативное действие, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, обмен информацией, информация, интеракция
Короткий адрес: https://sciup.org/14974710
IDR: 14974710 | УДК: 007:304:001
Текст научной статьи Процессуально-деятельностный характер коммуникации
Под коммуникацией следует понимать взаимообратный процесс перекодировки вербальной информации в невербальную. С исторической точки зрения в основе коммуникации лежит социальное принуждение к выполнению того или иного действия. Поэтому для проблемы коммуникации ключевым является понимание взаимодействия «Я» и «Ты», «Я» и «Другой». Ведь именно ради этих процессов перекодировки, обеспечивающих взаимодействие между людьми, и происходит определенный обмен значений между отдель- ными личностями, другими словами, двумя автономными системами, двумя микромирами. В стандартном коммуникативном акте особенно важны именно невербальные реакции на сообщение, поскольку такие «человеческие» проявления восхищения, удивления, ненависти и т. д. имеют подчеркнуто редуцированный вербальный компонент в виде разнообразных междометий, сигналов, которые на данный момент являются малоизученными в украинском научном дискурсе.
Учитывая актуальность рассматриваемых проблем, важность постижения социально-практического аспекта коммуникации, темой нашей статьи является «Процессуально-деятельностный характер коммуникации». Выбор темы для исследования обусловлен тем, что работа над этой проблемой позволяет наиболее полно охарактеризовать особенности коммуникации как социального феномена в аспекте коммуникативного процесса и коммуникативного действия.
В связи с вышеизложенным, целью нашей работы является исследование процессуальной сущности коммуникации как социального феномена в контексте коммуникативной системы.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи :
-
1. Предоставить общую характеристику коммуникации как социального феномена в контексте коммуникативного процесса.
-
2. Проанализировать и систематизировать существующие теоретические подходы к определению коммуникации и выделить процессуально-деятельностную составляющую.
-
3. Провести исследования научного познания на наличие связи «Я – Другой».
-
4. Выявить место «Я» и «Другого» в процессе коммуникации.
-
5. Определить характеристики коммуникационных процессов субъект – субъект.
-
6. Добавить признаки, характеризующие процессуально-деятельностный характер коммуникации.
-
7. Рассмотреть влияние участников процесса и будущих участников коммуникации.
Методы и результаты исследования
В научной литературе подчеркивается, что смысл деятельности человека – не только в том, чтобы получить результат: «смысл деятельности заключается и в самой деятельности, в самом процессе деятельности, в том, чтобы выявлять физическую и интеллектуальную активность. Так же как и физическая активность, умственная активность сама по себе доставляет человеку удовольствие и является специфической потребностью. Когда субъекта побуждает сам процесс деятельности, а не ее результат, то это свидетельствует о наличии процессуального компонента» [5, c. 8–9].
-
В. М. Барладым определяет процессуально-деятельностный компонент следующим образом: это реализация деятельности объек-
- тов и субъектов определенного процесса, функционирования инструментарных и методологических средств [1, c. 117].
Процессуальная часть педагогической технологии – это технологический процесс (организация учебно-воспитательного процесса, методы и формы учебно-воспитательной деятельности школьников, методы и формы работы учителя, деятельность учителя в сфере управления педагогическим процессом; диагностика педагогического процесса) [1, c. 118].
И.В. Гордиенко-Митрофанова, исследуя процессуально-деятельностную составляющую, отмечает, что она «отражает стратегию развития и саморазвития игротехнической компетентности совокупного субъекта и предусматривает как организацию учителем собственных действий путем построения и саморегуляции игротехнических действий в процессе учебно-игровой деятельности, так и организацию учителем деятельности учащихся» [2, c. 3]. По мнению автора, деятельность учителя рассматривается через образ гуманиста, создателя-исследователя, диагностика, тренера, игрока, арбитра. Учитель ставит задачу и определяет роли участников процесса, а также исследует выполнение задачи, определяет направление, направляет, корректирует, контролирует и т. д.
Современные исследователи считают, что процессуально-деятельностный характер присущ преимущественно игре, потому что в игре важен именно процесс, а не результат. Нет необходимости выиграть, важен именно процесс игры [5, c. 9]. «Игра – разновидность физической и интеллектуальной деятельности, не содержит прямой практической целесообразности, которая предоставляет лицу возможность самореализации, что выходит за рамки его актуальных социальных ролей» [8, c. 292].
Данное определение фиксирует важнейшие характеристики игры, отличающие ее от других видов деятельности, – основной принцип «игра ради игры» (высшая ценность игры – не в результате, а в самом игровом процессе), свобода и расширение возможностей человека, а также создание особого пространства («реальности») игры, в котором сочетаются традиционные стереотипы культуры с их ироническим переосмыслением, а следовательно, формируются особые правила, кото- рые функционируют в игровом пространстве. Для игры непременным условием является установление (наличие) определенных правил, даже если эти правила меняются или появляются в ходе игры [10, c. 14].
П. Ватцлавик тоже имплицитно выражает агностическую точку зрения, поскольку считает, что нет единой реальности. «Единственное, что существует, – это множество различных версий реальности... все они являются результатом коммуникации, но не отражениями какой вечной объективной истины» [12, c. 114]. Другими словами, реальность конструируется в коммуникациях многих субъектов.
В зарубежной литературе принято считать, что коммуникативный процесс имеет (по крайней мере, нормативно) субъект-субъек-тный характер. Но следует отметить, что коммуникация – это обмен информацией, и составляет неотъемлемую часть любого познавательного процесса.
Поскольку коммуникация осуществляется в нескольких пространствах, в том числе и в физическом пространстве, ее можно рассматривать и как процесс обмена сигналами низкого уровня энергии, в результате чего образуется обмен сигналами высокого уровня энергии. Таким образом, используя минимум энергии, обратно получается компенсация в виде максимума энергии, энергии высшего порядка. Каждый такой минимальный сигнал в системе связан с сигналом-максимумом. Система их связи получила название кода. Все это позволяет осуществлять обмен в физическом пространстве, применяя по существу не физические величины.
Если коммуникация – это перекодирование вербального в невербальное, то письменность возникает вследствие обратного действия: перекодировки невербальных характеристик в вербальные. Современная действительность может создавать длинные вербальные тексты, которые уже не связаны с процессами перехода в невербальную сферу [9, c. 14].
Итак, коммуникация протекает в основном в пределах двух основных коммуникационных каналов: вербального и визуального. Вербальная коммуникация строится на лексически выделенных единицах, соответствующих реалиям мира. Это приводит к увеличению количества лексических единиц слова- ря, из которых состоит бесконечное число сообщений. Визуальная коммуникация не имеет подобного набора заранее установленных единиц. Отсутствие элементарных единиц (данных или заданных) делает более универсальным процесс восприятия визуальной коммуникации, поскольку не требует предварительного ознакомления со списком терминов для понимания сообщения.
Однако и на визуальном уровне существуют предварительные нормы, определяющие форму необходимого сообщения [9, c. 21].
Коммуникация может быть иерархической (с приоритетом прямой связи) и демократической (с приоритетностью обратной связи). Отличают эти два вида коммуникации две важные структурные особенности, а именно: для иерархической схемы важен приказ, для демократической – убеждение. Таким образом, для иерархической схемы важнее чистота канала связи, поскольку такое сообщение при получении получателем всегда будет выполнено. В демократической системе схема коммуникации строится по-другому, согласно последней, получатель имеет право выбора: выполнять и прислушаться к полученному сообщению или нет.
Наиболее распространенной является дихотомия устной/письменной коммуникации. Она становится заметной при обращении к словарю, где проявляются эти дихотомии (абстрактные – конкретные, длинные – короткие слова), по синтаксису (длинные – короткие суждения). Письменная коммуникация не содержит таких явлений, как хезитации (выражения сомнения, проявляющиеся в нерешительной речи, паузах). Отсюда следует, что письменная коммуникация отнюдь не является простой фиксацией устной, поскольку она выбирает из нее исключительно те характеристики, которые способствуют усилению авторитетности своего слова и символа [9, c. 25].
А.П. Журавлев разграничивает коммуникативное поведение сильного и слабого участника коммуникации. В соответствии с вышеупомянутыми коммуникативными дихотомиями, можно добавить и эту. Обмен информацией автор толкует как сферу борьбы. Например: «Опираясь, партнер всегда дает информацию в виде возражений, в бессловесной реакции или даже в отсутствии какой-либо реакции. Любое сопротивление партнера говорит о том, что полученная им информация оказалась недостаточно эффективной. Итак, чтобы продолжать борьбу, нужно вновь продуцировать информацию – более значительную, чем выдана ранее, чтобы получить такую новую информацию, которая подтвердила результативность предыдущей» [4, c. 174]. Автор придает большое значение именно сильному противнику, именно сильной позиции.
Согласно этой позиции, слабый партнер – многословен, тогда как сильный – скуп на слова. Слабый, чтобы противодействовать сильному, вынужден информировать партнера о сложных и трудных ситуациях, которые заставляют его бороться и настаивать на своем. Хотя в наступлении слабому партнеру нужно добыть информацию, в практическом измерении его слабость заключается в том, что он слишком раскрывает ее» [4, c. 192].
Это проявляется в том, что слабый может выдавать информацию, надеясь заинтересовать сильного. Скупость на слова, по мнению А.П. Журавлева, является демонстрацией силы. Особое внимание он предоставляет коммуникативной характеристике профессий, где одни профессии заняты преимущественно выдачей информации (педагоги, воспитатели, библиотекари), а другие – те, кто чаще приобретает ее (разного рода администраторы).
Для определения интеграционных перспектив участника и наблюдателя коммуникативного действия необходимо упомянуть о степени изменения перспективы в аспекте поступательного построения системы коммуникации, которые выделяются Р. Селманом:
Степень 1. Принятие дифференцированной и субъективной перспективы (между 5-ю и 9-ю годами).
Степень 2. Принятие саморефлексивной (от второго лица) и взаимонаправленных перспектив (между 7-ю и 12-ю годами).
Степень 3. Принятие перспективы третьего лица и взаимной перспективы (между 10-ю и 15-ю годами) [16, c. 24].
Для первой ступени Р. Селман постулирует, что ребенок, хотя и различает между собой перспективы толкования и действия, присущие разным участникам интеракции, но при оценке действий других индивидов он еще не способен, сохраняя свою собственную по- зицию, встать на место другого. Поэтому он не может и оценить с точки зрения другого свои собственные действия [16, c. 35]. Ребенок начинает отличать внешний мир от мира внутреннего, к которому у него есть привилегированный доступ; однако у него отсутствуют четко определенные базовые социальнокогнитивные понятия мира нормативных отношений. В свою очередь нормативные отношения В. Демон сводит к конвенциональному уровню социальных перспектив. На этом уровне ребенок корректно использует повествовательные и побудительные предложения, суждения, выражающие желания и намерения. С нормативными суждениями он еще не связывает никакого определенного смысла; повелительные предложения еще не различаются в зависимости от того, какое субъективное домогательство связывает коммуниканта с ними [14, c. 122].
Проведем исследование научного познания на наличие связи «Я – Другой». Наука (научное познание) – коллективное действие, в которой важную роль играют личные контакты между учеными, а определяющую роль играет активная коммуникация исследователя с другими (непосредственная – через личные встречи на конференциях, переписка и т. д., и опосредованное – через изучение результатов исследований других, рецензирование).
В соответствии с этим следует подать определения Б. Маркова: научное познание – это институт людей, говорящих и действующих вместе [7, c. 317].
Первый шаг к координации спланированных действий различных участников интеракции, на основе общего для них понимание ситуации, заключается в том, чтобы распространить взаимовлияние между тем, кто говорит, и тем, кто слушает, на отношение между актерами, истолковывать общую ситуацию действия в свете тех или иных своих планов, исходя из различных перспектив. Р. Селман не случайно характеризует эту степень изменения перспектив через точку зрения «другого лица». С переходом ко второму уровню подросток учится обращать деятельностные ориентации разговаривающего и слушателя друг на друга. Он может посмотреть с точки зрения другого индивида и знает, что и другой может посмотреть с его точки зрения, в пер- спективе действия «Я», «Я и Другой» могут при необходимости принимать в отношении собственных деятельностных ориентаций установку оппонента. Тем самым коммуникативные роли первого и второго лица находят эффективность в плане координации действия [16, c. 105].
Встроенная в перформативную установку коммуникатора перспективная структура имеет теперь определяющее значение не только для достижения взаимопонимания, но и для самой интеракции. Тем самым перспективы взаимодействия «Я – Ты» используются коммуникатором и слушателем для эффективной координации совместных действий.
Эта перспективная структура снова меняется с переходом к третьему уровню, поскольку в область интеракции вводится перспектива наблюдателя. Дети с ранних лет учатся корректному употреблению местоимения третьего лица, если они понимают друг друга, когда разговор заходит о других лицах, их высказывания, их собственность и т. д. Подростки учатся на перспективе наблюдателя, учатся обращаться к межличностным отношениям с тем или иным участником интеракции, в которые они вступают в перформативной установке. Они соединяют последнюю с нейтральной установкой постороннего лица: просто присутствовать при процессе интеракции в роли слушателя или зрителя. При таком условии взаимонаправленности деятельностные ориентации могут возникнуть в качестве предмета сознания, обеспечивать его целостность и системность [11, c. 110].
Такое заполнение системы действенными перспективами означает в то же время и актуализацию полноценных, заложенных в грамматической системе, личных местоимений системы, перспективы того, кто говорит, такой, которая позволяет выйти на новый уровень организации диалога [13, c. 79]. Новизна структуры состоит в том, что взаимное ограничение деятельностных ориентаций первого и второго лица может быть понято в пользу перспективных взаимоотношений с третьим лицом. Участники третьего уровня коммуникативного действия могут не только взаимно перенимать друг у друга действенные перспективы, но и обменивать перспективы участников интеракции на перспективу наблюда- теля и трансформировать их друг в друга. На этом, третьем уровне, изменения перспектив осуществляются для построения «социального мира», которое, в свою очередь, было подготовлено на иной ступени [11, c. 115].
Уровни перспективы действий в определении Р. Селмона означают, что развитие личности имеет естественный характер. В зависимости от возрастного, интеллектуального, социального уровней, личность вступает в разнообразные коммуникативные связи, которые отличаются от предыдущего уровня большими уровнем и степенью развития коммуникативной связи. Что, в свою очередь, позволяет осуществлять эффективную и рациональную коммуникацию на более высоком уровне.
Дж. Флейвелл моделирует психологическое исследование изменения перспектив. Его исследование базируется на одном из четырех типов интеракции [15, c. 104]. Он выбрал для своих экспериментов следующую ситуацию: под двумя перевернутыми чашками спрятана та или иная сумма денег (соответственно один или два никеля), указанная также и на обращенных кверху донышках этих чашек. Испытуемым наглядно демонстрируется, что между надписями и действительно спрятанной суммой существует отношение, которое можно изменять произвольно. Задача состоит в том, чтобы тайно распределить монетки таким образом, чтобы человек, которого потом приглашают выбрать чашку, под которой, как ему кажется, спрятана крупная сумма, ошибся и ушел ни с чем. Условия определены таким образом, что испытатель попадает в пределы элементарной соревновательной поведения и пытается косвенным образом повлиять на решение, принимаемое противной стороной.
Ограниченные этими условиями участники взаимодействия исходят из того, что: а) каждый преследует только свои собственные интересы – денежные или какие-либо другие; б) обоим известны интересы другого лица; в) вступать в прямые переговоры запрещается – каждому приходится строить гипотезы относительно того, как поведет себя другой; г) нужны или, во всяком случае, допускаются обманные маневры с обеих сторон, и притязания на нормативную значимость, которые могли бы быть связаны с самими пра- вилами игры, в рамках игры не обсуждаются. Смысл игры понятен: партнер будет пытаться достичь максимального выигрыша, а другой подопытный должен этому помешать. Таким образом, если подопытные становятся той перспективной структурой, которую Селман приписывает второму уровню, то они выберут стратегию, которую Флейвелл обозначает как стратегия В. Ребенок догадывается, что другой руководствуется денежными соображениями, и будет искать два никеля под той чашкой, на которой обозначена сумма в один никель, обосновывая это следующим: партнер исходит из того, что я хотел бы его обмануть и поэтому не стану ложить два никеля под ту чашку, на которой указана соответствующая сумма [15, c. 165].
Итак, мы получаем в экспериментальных условиях пример соревновательного поведения, в котором воплощены взаимонаправ-ленные перспективы отношений «Я – Ты». По линии этого типа действий хорошо прослеживается ход преобразования преконвенциональ-ной степени интеракции.
Если испытуемые становятся перспективной структурой, которую Селман приписывает третьему уровню, тогда они выберут Флейвеллеву стратегию С . А именно, они станут раскручивать спираль рефлексии дальше, и примут во внимание, что партнер сможет распознать и выбранную ими стратегию В (вместе с той взаимонаправленной перспективой, которая лежит в ее основе). К пониманию этого подросток приходит, как только ему удается определить взаимонаправленные отношения между «Я» и «Другим» с точки зрения наблюдателя и представить их как определенную систему [11, c. 122].
Это дает нам возможность осознать структуру игры двух соперников: если предположить, что оба ее участника ведут себя рационально, то вероятность выигрыша и проигрыша распределяется поровну, так что «Я» может с равным успехом принять как одно, так и другое решение.
Стратегия С характеризует, таким образом, действия, которые возможны только на конвенциональном уровне интеракции, при условии формирования комплексной перспективной структуры, соответствует третьему уровню Селмана.
С этой точки зрения можно охарактеризовать преобразования преконвенционального соревновательного поведения в стратегическое действие благодаря координации перспектив наблюдателя и участника взаимодействия [15, c. 98].
При этом изменяется и понятие о субъекте, поскольку «Я» способно теперь приписывать «Другому» ту или иную модель поведения. Если до сих пор казалось, что «Другой» в крайнем случае благоразумно руководствуется своими меняющимися потребностями или интересами, то теперь он воспринимается как субъект, который руководствуется правилами рационального выбора. Во всех остальных отношениях преконвенционального уровня субъект определяется как тот, кто действует стратегически; для него достаточно того, что он формирует поведенческие ожидания на основе приписываемых намерений, понимает мотивы действий в терминах вознаграждения и наказания и толкует власть авторитета как способность поощрять положительными санкциями или угрожать негативными [15, c. 78].
В данном случае на примере Дж. Флейвелла об изменениях перспектив достаточно четко наблюдается проявление критического мышления у игроков, которые, руководствуясь собственным «Эго», пытаются в результате рефлексивных действий достичь наилучшего результата для себя. В свою очередь, данное проявление с точки зрения коммуникативных действий выводит из системы ценностей человека понятие отзывчивости, уважения к оппоненту, доброжелательности, поскольку в результате изменений перспектив, приведенных в указанном примере, игрок действует исключительно в собственных интересах, следуя меркантильным и эгоистическим интересам. По этому поводу следует отметить, что данные проявления личности, побуждающие к изменению перспектив, зависят от социальной действительности, в которой оказался игрок. Поэтому, чем больше человек находится в данной социальной действительности, тем больше он убеждается, что его меркантильно-эгоистические интересы являются нормой жизни, диктуются указанными выше правилами игры.
Если рассматривать процесс «Я – Другой» в выбранном нами ракурсе, то «Другой»
в качестве другого субъекта научного познания в коммуникации признается тем, кто влияет на «Я» как на субъект познания. На определенных этапах познания (при выборе тех или иных методов и средств, при анализе результатов экспериментов, при построении гипотез и т. д.) мнение Другого становится определяющим, ученый прислушивается к нему, тем самым признавая полномочия другого ученого как сосубъекта познания.
Следует отметить, что такой процесс не является стихийным, он целиком и полностью зависит от всей системы ценностей, которые определяют научное познание именно в качестве научного. Ведь одним из важнейших процессов легитимизации знания как научного является опубликование результатов, то есть вынесение на публику, демонстрация Другим в большом количестве форм (выступления, беседы, переписка, собственно публикация) и на разных этапах познания (опубликование методов, гипотез, промежуточных и окончательных результатов). И поэтому представление субъекта о действительности (познанное) определяют не столько объективные характеристики действительности, сколько другое субъективное представление, которое «первый» субъект принимает в качестве критерия объективности собственного субъективного представления.
Для понимания коммуникации как процесса рассмотрим несколько утверждений ученых и сделаем собственный вывод.
Коммуникативная установка ориентирована на взаимопонимание с Другим и предусматривает три отношения: высказывание служит выражением намерений говорящего, выражением межличностного отношения между говорящим и слушателем и, наконец, выражением того, что действительно имеет место и о чем говорится в высказывании [11, c. 40].
Ю. Хабермас считает, что исследователь социальной действительности всегда находится в перформативной (или совместной) установке, в отличие от исследователя-естествоиспытателя. Поэтому в контексте познания социальной действительности, смыслопо-нимания – это коммуникативный опыт, который не ограничивается только наблюдением, а предполагает участие в процессе понимания [11, c. 321–322].
Е. Ищенко пишет: «Элиминация чувств, эмоций, страстей из человеческого познания видится крайне проблематичной, тем более, когда речь идет о социогуманитарных познаниях» [6, c. 170].
Находясь внутри изучаемой действительности (общества), социальный исследователь не способен абстрагироваться от ценностных приоритетов других лиц, с которыми связан как научно-институциональной коммуникацией, так и общностью участия в социальных процессах.
В познании ученого, который исследует социальные вопросы, говорится, скорее, о содержательном аспекте: другие участники социального процесса (общество в целом) определяют содержание того, что исследует ученый как участник. Зато в познании представителя естественных наук имеет место, скорее, формальный аспект: другие субъекты определяют, прежде всего, ценностные ориентации, с которыми исследователь подходит к объекту, который им изучается. Но это не отрицает также влияния на содержательные компоненты: например, в том, что изучает естествоиспытатель, так или иначе отражается социальный заказ [3, c. 134].
Таким образом, коммуникативный процесс важен сам по себе. Определяющими характеристиками процессов являются субъект-субъектная (коммуникация) и субъект-объек-тная (познание) направленности.
Не менее интересной представляется точка зрения о том, что в процессе существования люди познают материальные и нематериальные объекты (вещи), а коммуникация происходит в различных формах. Это приводит к тому, что мы уверены в объективности, адекватности и завершенности познания. Следовательно, «Другого» можно интерпретировать как критерий формирования нашего познания в процессе коммуникации.
В подтверждение сказанного можем добавить, что «Другой» в коммуникационном процессе выступает как вечное (нескончаемое) условие познания, он дает возможность формирования адекватности действительности, так как выход за пределы индивидуального сознания с помощью только его же средств невозможен.
Г.П. Даниляк следующим образом характеризует процессуально-деятельностный характер коммуникации: «Всякое познание нуждается в своей основе, которая собственно и предстает перед нами. “Другой”, в свою очередь, оказывает значительное влияние на формирование наших потребностей, которые становятся генератором познавательной деятельности. <...> Толчком к познанию действительности становятся конфликты с той интерпретацией действительности, которая принадлежит другим лицам. Решение конфликта возможно лишь путем присвоения (принятия) чужой интерпретации или навязывание собственной, причем первый путь (учитывая недостаток знаний, опыта, возможностей познания и, в конечном итоге, через необходимость «экономить» жизненное время) избирается значительно чаще. И в любом случае “Другой” является источником потребности и, в таком аспекте, источником познания» [3, c. 144–145].
«Другой» является условием появления и функционирования коммуникации. Невозможно отделить язык, речь, коммуникацию, диалог от носителей. Также невозможно отделить носителей коммуникации как первоосновы от коммуникативных процессов. «Я» и «Другие» – творцы коммуникативного взаимодействия.
Выводы
Под коммуникацией необходимо понимать обращенные процессы перекодировки вербальной информации в невербальную и наоборот. Современная действительность может создавать длинные вербальные тексты, которые уже не связаны с процессами перехода в невербальную сферу. Межличностная коммуникация протекает в двух основных каналах: вербальном и визуальном. Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки. В этом смысле визуальная коммуникация обладает большей гибкостью, что измеряется в символическом выражении эмоциональных состояний человека. Другим важным делением является деление коммуникации на иерархическую (с приоритетностью прямой связи) и демокра- тическую (с приоритетностью обратной связи). Наиболее распространенной является дихотомия устной/письменной коммуникации. Коммуникативное поведение индивидов может разграничиваться на сильных и слабых участников коммуникации.
Степени изменения перспектив в аспекте поступательного построения системы коммуникаций определяют интеграционные процессы между участником и наблюдателем коммуникативного действия.
Изменения перспектив прослеживаются экспериментальным путем, достаточно четко обнаруживают проявление критического мышления у игроков, которые, руководствуясь собственным «Эго», пытаются в результате рефлексивных действий достичь наилучшего результата для себя. Но последнее грозит изменением системы ценностей со слабостью эмпатии на межличностном и социальном уровнях.
Таким образом, коммуникация между «Я» и «Другими» относится не только к тем, кто находится в процессе коммуникации, но и ко всем, кто подпадает или может подвергнуться в будущем под коммуникативное действие «Я». В начале коммуникации «Я» вступает в коммуникационный процесс с ценностными ориентирами, проникнутыми от «Других». Далее, в процессе коммуникации, через «Я» говорят также множество «Других». Завершая коммуникацию, ее содержание, ее результаты влияют на непосредственных участников коммуникационного процесса и на «Других», которые прямого участия в этом процессе не принимают, но получат возможность воспринимать приобретенные ценности (мысли, взгляды и т. п.) в начале новой коммуникации.
Мы пришли к выводу, что коммуникация не ограничивается обменом информацией. Коммуникация – это встреча «Я» и «Других», то есть тех, кто участвует в коммуникативном процессе. Коммуникация приобретает форму и содержание в коммуникационном процессе, налаживается между «Я» и «Другим». Все участники коммуникации взаимодействуют не изолированно друг от друга, а также от «Других» – от ценностных ориентаций, знаний, стереотипов, мировоззрения, восприятия действительности.
Список литературы Процессуально-деятельностный характер коммуникации
- Барладим, В. М. Педагогiчнi технологiї: аналiз та перспективи їх використання/В. М. Бардладим//Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання. -2013. -Т. 37, № 5. -С. 116-126.
- Гордiєнко-Митрофанова, I. В. Програма реалiзацiї моделi органiзацiї дидактичних iгор-манiпулятивiв у навчальному процесi загальноосвiтньої школи/I. В. Гордiєнко-Митрофанова//Вiсник НА ДПС України. -2012. -№ 5. -C. 1-13.
- Даниляк, Р. П. Концептуальнi пiдходи до пiзнавальної та комунiкативної взаємодiї Я та Iншого: методологiчний аналiз: дис.... канд. фiлос. наук: 09.00.02/Р. П. Даниляк. -Львiв, 2006. -176 с.
- Журавлев, А. П. Звук и смысл/А. П. Журавлев. -М.: Политиздат, 2001. -439 с.
- Занюк, С. С. Психологiя мотивацiї/С. С. Занюк. -К.: Либiдь, 2002. -304 с.
- Ищенко, Е. Познание Другого -эпистемологические проблемы и социокультурные аппликации/Е. Ищенко//Логос. -2005. -№ 4 (49). -С. 156-172.
- Марков, Б. В. Мораль и разум/Б. В. Марков//Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. -СПб.: Наука, 2001. -С. 287-377.
- Постмодернизм: энциклопедия/сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. -Минск: Интерпрессервис, 2001. -1040 с.
- Почепцов, Г. Г. Теория коммуникаций/Г. Г. Почепцов. -М.: Рефл-бук, 2009. -400 с.
- Сотникова, О. А. Игра и коммуникация в социальной виртуальной реальности: дис.... канд. филос. наук: 09.00.03/Сотникова Ольга Алексеевна. -Харьков, 2005. -157 с.
- Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие/Ю. Хабермас. -СПб.: Наука, 2001. -380 с.
- Цоколов, С. Принцип конструювання дiйсностi у теорiї комунiкацiї (комунiкативний конструктивiзм Пола Ватцлавiка)/С. Цоколов//Фiлософська думка. -2001. -№ 1. -С. 113-127.
- Auwarter, М. Zur Interdependenz vоn kommunikativen und interaktiven Fahigkeiten in der Ontogenese/М. Auwarter -F. а. М.: Кindliche Kommunikation. -1979. -243 р.
- Damon, W. Zur Entwicklung der sozialen Коgnition des Kindes/W. Damon//Perspektivitat und Interpretation. -F. а. М., 1982. -Р. 110-145.
- Flavell, J. Н. Development of Role-Taking and communication/J. Н. Flavell. -N. Y.: Ski11s in Children, 1968.-257 р.
- Selman, R. L. Stufen der Rolle niibernahme in der mittleren Kindheit/R. L. Selman. -Кoln: Entwick1ung des Ichs, 1977. -111 р.