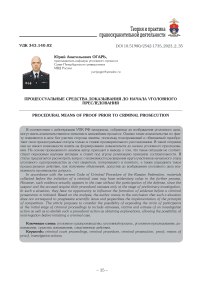Процессуальные средства доказывания до начала уголовного преследования
Автор: Огарь Ю.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (51), 2023 года.
Бесплатный доступ
В соответствии с действующим УПК РФ материалы, собранные до возбуждения уголовного дела, могут иметь доказательственное значение в дальнейшем процессе. Однако такие доказательства по факту появляются в деле без участия стороны защиты, поскольку подозреваемый и обвиняемый приобретают свои процессуальные статусы только в стадии предварительного расследования. В такой ситуации они не имеют возможности влиять на формирование доказательств до начала уголовного преследования. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что такая ситуация не соответствует передовым научным взглядам и ставит под угрозу реализацию принципа состязательности. В статье предлагается рассмотреть вопрос о возможности расширения круга участников начального этапа уголовного судопроизводства за счет свидетеля, потерпевшего и понятого, а также упразднить такое процессуальное действие, как получение объяснений, допустив до возбуждения уголовного дела возможность производства допроса.
Уголовное судопроизводство, уголовный процесс, уголовное преследование, доказывание, средства доказывания, следственные действия
Короткий адрес: https://sciup.org/140301940
IDR: 140301940 | УДК: 343.140.02 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_2_35
Текст научной статьи Процессуальные средства доказывания до начала уголовного преследования
К одному из наиболее актуальных и одновременно долгое время наименее законодательно урегулированных вопросов отечественного доказательственного права можно с полным основанием отнести вопрос о доказательственном значении материалов предварительной проверки поступившего сообщения о преступном деянии.
Нельзя не отметить, что в уголовно-процессуальной науке касательно начальной стадии уголовного процесса отсутствует единый взгляд на понятие «средства доказывания». Так, ряд ученых полагают, что в качестве средств доказывания в данном случае выступают непосредственно доказательства, представленные как в сведениях о каких-либо фактах, так в виде источников таких сведений [3, с. 159].
Более популярным в научном мире и, как представляется, более аргументированным является подход, в соответствии с которым под средствами доказывания необходимо понимать способы собирания и фиксации доказательств. С точки зрения лексического значения под средством понимаются «прием, способ действий, совокупность приспособлений». Если экстраполировать такую трактовку на вопросы уголовно-процессуального доказывания, то можно прийти к выводу, что средствами доказывания действительно выступает комплекс тех приемов и способов, посредством которых должностные лица органов предварительного расследования получают сведения, необходимые для принятия правильного решения по итогам предварительной проверки [8, с. 3].
Еще на этапе разработки УПК РФ 2002 года достаточно большое число процессуалистов не поддерживали идею придания «доследственным» материалам статуса доказательств, поскольку, как они полагали, доказательства в уголовном процессе могут быть сформированы только после принятия решения о возбуждении дела [11, с. 50; 8, с. 27].
Не поддерживая такую позицию, мы солидарны с А.В. Белоусовым, который справедливо отмечает, что в основе подоб- ного подхода к материалам начальной стадии уголовного процесса лежат традиции англо-саксонской правовой семьи, где поиск доказательственных сведений реализуется сторонами в непроцессуальных формах до направления материалов в суд, однако само доказывание, на основании которого принимается итоговое решение по делу, осуществляется только в судебном разбирательстве. Но, как отмечает автор, в российском законодательстве оснований для подобного подхода не имеется [1, с. 31].
Здесь уместно вспомнить, что и в англоамериканском процессе в данном случае есть исключения, основным из которых выступает признание подозреваемого в причастности к совершению преступления, в виновности или в каких-либо отдельных фактах, имеющих значение для дела.
На нормативном уровне российский законодатель в марте 2013 г. во многом поставил точку в научной дискуссии относительно доказательственного значения средств доказывания до возбуждения уголовного дела, включив в УПК РФ ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, где прямо указано, что полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения обладают доказательственным значением.
Другими словами, материалы, полученные до возбуждения уголовного дела, имеют статус полноценных доказательств. В частности, такой вывод подтверждается отдельными положениями о доказывании при производстве «сокращенного» дознания, урегулированного нормами главы 32.1 УПК РФ.
Таким образом, само по себе доказывание – формирование готовых доказательств до начала уголовного преследования – вполне допустимо и не противоречит конвенционному праву на справедливое судебное разбирательство. Конвенция о защите прав человека и основных свобод1 требует справедливого судебного разбирательства, которое обеспечивается предоставлением обвиняемому адекватной возможности оспорить выдвигаемые против него обвинительные доказательства.
В таких условиях, с одной стороны, необходимо обеспечить стороне защиты возможность оспорить доказательства, с другой стороны, закрепить в форме доказательств следы преступления и иные имеющие значение для дела сведения.
Но как обеспечить стороне защиты такое право, если свой статус подозреваемый приобретает только после возбуждения уголовного дела, а до этого момента не имеет возможности влиять на процесс формирования доказательств? Ответ, прежде всего, видится в том, чтобы предусмотреть возможность появления подозреваемого на более раннем этапе уголовного процесса, нежели это закреплено сейчас.
В российском уголовно-процессуальном законе закреплен арсенал тех средств, которые могут быть задействованы при проведении «доследственной» проверки. При этом можно вести речь о наличии двух групп таких средств – следственных действий и иных процессуальных действий.
В то же время производство следственных действий допустимо в первой стадии уголовного процесса в ограниченных пределах (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). По логике законодателя, именно те пять следственных действий, которые он допускает в рассматриваемой стадии, носят неотложный характер, препятствуют безвозвратной утрате следов преступления и в целом способствуют решению задач, стоящих перед стадией, то есть помогают решить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. С этой логикой следует согласиться. Не вызывает сомнения, что промедление с производством осмотра места происшествия, трупа, предметов и документов, освидетельствования и производства экспертизы с огромной долей вероятности повлечет невосполнимый пробел в доказательственной базе.
Арсенал иных процессуальных действий, посредством которых осуществляется формирование доказательств в стадии возбуждения уголовного дела, по той же логике также носит ограниченный характер [2, с. 159].
Итак, по сути, складывается ситуация, при которой в настоящее время доказатель- ства по уголовному делу разграничиваются на полученные до его возбуждения и полученные после принятия такого решения.
Получается, что доказательства, полученные до возбуждения дела, появляются в процессе до того, как в нем появилась сторона защиты, которая в дальнейшем после вступления в судопроизводство сталкивается с уже «готовыми» доказательствами, при формировании которых она не присутствовала и, соответственно, не могла им ничего противопоставить. Возникает вопрос: отвечает ли подобная ситуация состязательным началам, к обеспечению которых стремится российский уголовный процесс? Не было ли правильнее, если бы доказательства формировались с участием обеих сторон? Нужно ли в итоге это разграничение средств доказывания – на до и после возбуждения уголовного дела?
Безусловно, ответы на эти вопросы зависят от подхода к доказыванию, от типа процесса, от степени обеспечения равноправия сторон. Однако в любом случае можно вести речь о невосполнимых и неповторимых следственных действиях, производство которых возможно только однократно и не может быть отложено на потом. Конечно, это в первую очередь относится к различным видам осмотра, освидетельствованию и экспертизе, допускаемым законом до возбуждения дела. Однако, если, к примеру, заподозренное лицо находится в тяжелобольном, предсмертном состоянии, то УПК РФ в действующей редакции позволяет получить с такого лица только объяснения, но не допросить его.
Зачем же законодатель довольно-таки существенно ограничивает средства доказывания в начальной стадии уголовного процесса?
Изначально «водораздел» в виде решения о возбуждении уголовного дела задумывался законодателем для того, чтобы исключить произвол должностных лиц органов предварительного расследования, сведя к минимуму производство следственных действий, каждое из которых в той или иной мере связано с элементами принуждения при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Однако после законодательного расширения средств доказывания в стадии возбуждения уголовного дела этот «водораздел» по факту был стерт.
Сегодня меняется регламентация доказывания в целом по сравнению с советским УПК РСФСР. К примеру: освидетельствование свидетеля допускается по общему правилу с его согласия, свидетель вправе пользоваться услугами адвоката, обыск, осмотр в жилище и другие следственные действия, ограничивающие конституционные права, производятся не с санкции прокурора, а по судебному решению, при предъявлении для опознания и при обыске необходим защитник и т.д.
Отсутствие всех гарантий в советском уголовном процессе и порождало потребность в этом самом разграничителе, которым и по сей день выступает акт возбуждения уголовного дела и в котором именно в связи с коренными преобразованиями доказательственного права отпала необходимость.
Здесь можно было бы возразить, что разграничение, возможно, сохраняется для действий, существенно ограничивающих конституционные права лиц, вовлеченных в сферу уголовно-процессуальных отношений. Те действия, которые производятся по судебному решению, допускаются только после возбуждения уголовного дела, а до – лишь те, которые связаны с несущественным принуждением. Однако и такое утверждение явилось бы несостоятельным. К примеру, если местом происшествия является жилище и кто-либо из проживающих в нем на законных основаниях лиц возражает против осмотра, то для осмотра такого места происшествия по общему правилу требуется решение суда в качестве предварительного или последующего судебного контроля.
Обращает на себя внимание, что современные тенденции развития законодательной регламентации стадии возбуждения уголовного дела являются достаточно противоречивыми. С одной стороны, законодатель расширяет перечень следственных действий, допустимых в этой стадии, а с другой – «придумывает» и вводит в УПК РФ дополнительные наименования участников («лицо, в отношении которого осуществляется проверка»), продолжая всячески избегать задействования в начальной стадии процесса полноценных участников сторон – свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
Кроме того, законодатель, не допуская допроса в этой стадии, придает доказательственное значение объяснениям, что, как представляется, также еще больше формализует и усложняет процессуальную деятельность на первом этапе уголовного судопроизводства.
Получение объяснений как самое распространенное иное процессуальное действие в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении всегда было в центре внимания уголовно-процессуальной науки.
Это связано с тем, что, с одной стороны, объяснениям долгое время законодатель не придавал доказательственного значения. В последующем, после возбуждения уголовного дела, объяснения как бы «стирались» посредством допроса соответствующего лица в приобретенном процессуальном статусе. С другой стороны, объяснения долгое время вызывают нарекания правоприменителя за то, что обусловливают дублирование деятельности по получению одних и тех же сведений от одних и тех же лиц: сначала имеет место получение объяснений, а потом та же самая процедура по факту повторяется в виде допроса.
Важность той информации, которую получают органы предварительного расследования из объяснений, не вызывает сомнений, однако в российском уголовно-процессуальном законе отсутствует понятие этого процессуального действия, что порождает проблемы практического характера в части порядка получения объяснений и их дальнейшего значения в качестве доказательств.
В уголовно-процессуальной науке бытует позиция, в соответствии с которой объяснения, полученные в ходе предварительной проверки, не могут заменить собой показания, и поэтому, соответственно, не могут быть наделены статусом допустимого доказательства [12, с. 32].
С этим отчасти можно согласиться. Однако также нельзя не признать, что полученные от лица сведения не становятся от этого менее значимыми для дальнейшего производства по делу
[4, с. 264]. М.В. Мантарджиев отмечает, что в целом можно было бы допустить использование информации из объяснений в дальнейших стадиях процесса без каких-либо ограничений. Но при этом опрос не подкрепляется соответствующими гарантиями, в силу чего возникают сложности с его уравниванием в значении с другими доказательствами, которые отвечают требованиям, установленным УПК РФ [6, с. 146].
На наш взгляд, правомерно задаться вопросом: а нельзя ли заменить объяснения сразу допросом и какие к этому имеются препятствия?
В этом вопросе мы солидарны с позицией С.М. Кузнецовой, согласно которой грань между получением объяснений и допросом фактически стерта и остается не понятным, для чего необходимо одновременное существование двух различных по наименованию, но одинаковых по содержанию процессуальных действий. Для завершения реформирования стадии возбуждения уголовного дела в нее следует допустить и такое следственное действие, как допрос [5, с. 62].
Главным препятствием к расширению средств доказывания на начальном этапе уголовного судопроизводства за счет следственных действий является отсутствие у участников этого этапа конкретных процессуальных статусов и, как следствие, четкого набора их прав и обязанностей. Решить эту проблему можно прямым путем – допустив наделение участников первой стадии уголовного судопроизводства процессуальными статусами.
В связи с этим О.В. Сидоренко справедливо пишет, что по факту лицо становится подозреваемым еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Этот статус приобретается им в связи с тем, что ограничиваются его конституционные права – прежде всего права на личную неприкосновенность и свободу передвижения [10, с. 109]. А.А. Попов высказывает в этом отношении позицию, согласно которой четкое определение статуса участников уголовно-процессуальных отношений оказало бы содействие в укреплении первой стадии процесса, а также обеспечило бы данную стадию теми сред- ствами, которые необходимы для того, чтобы принять обоснованное решение по ее итогам [9, с. 100].
Действительно, появление полноценных участников процесса уже в начальной стадии способстововало бы разрешению ряда проблем. К примеру, производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела в настоящее время ставит под угрозу реализацию права сторон на ознакомление с постановлением должностного лица о ее назначении, поскольку, исходя из буквального трактования действующей нормы, такое ознакомление допускается только после возбуждения уголовного дела.
Кроме того, задействование потерпевшего и свидетеля с самого начала процесса при условии возможности их допроса позволило бы решить проблему с предупреждением этих лиц об уголовной ответственности как за дачу заведомо ложных показаний, так и за отказ от дачи показаний. На сегодняшний день при получении объяснений лица не предупреждаются об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ, так как не являются субъектами данных противоправных деяний. Дача объяснений не является для лица обязанностью, так как за отказ от этого не предусмотрено никакой ответственности. Однако подобные отказы на первоначальном этапе судопроизводства от передачи должностному лицу сведений, которые могут иметь важнейшее значение для установления субъекта и других обстоятельств совершенного преступления, представляются недопустимыми и должны быть законодательно исключены под угрозой наступления уголовной ответственности.
Таким образом, можно сделать ряд выводов.
Ограничения в доказывании до начала уголовного преследования можно в целом признать правомерными, так как на этом этапе отсутствует сторона защиты, которая не может в связи с этим участвовать в формировании доказательств. При этом возможность как-то адекватно компенсировать этой стороне в будущем подобное неучастие с учетом существующей нормативной регламентации представляется сомнительной.
Представляется нецелесообразным привязывать появление полноценных статусов участников процесса к формальному решению о возбуждении уголовного дела. С учетом этого мы предлагаем расширить число участников начального этапа уголовного судопроизводства – в любом случае, вне зависимости от наличия заподозренного лица – за счет свидетеля, потерпевшего и понятого (если лицо, проводящее предварительную проверку, сочтет участие понятых необхо- димым при производстве какого-либо следственного действия).
Продолжая идею о расширении круга участников, мы предлагаем расширить также и круг проверочных средств, допустив во всех случаях в ходе предварительной проверки производство допроса, упразднив такое иное процессуальное действие, как получение объяснений, которое излишне формализует процесс и обусловливает дублирование деятельности должностных лиц.
Список литературы Процессуальные средства доказывания до начала уголовного преследования
- Белоусов, А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений / А.В. Белоусов. – М.: Юрлитинформ. 2001.
- Гасанов, А.М. Доказательственное значение следственных и процессуальных действий, совершаемых до возбуждения уголовного дела / А.М. Гасанов // Закон и право. – 2022. – N 7.
- Григорьев, В.Н. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / В.Н. Григорьев // Доказывание по уголовным делам: межвузовский сборник. – Красноярск: КГУ, 1986.
- Кузнецов, Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Н.П. Кузнецов, Л.Д. Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1995.
- Кузнецова, С.М. Проблемы использования объяснений, полученных на стадии возбуждения уголовного дела в доказывании / С.М. Кузнецова // Алтайский юридический вестник. – 2014. – N 5.
- Мантарджиев, М.В. Отдельные проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / М.В. Мантарджиев // Matters of Russian and International Law. – 2018. – N 8.
- Пальчикова, Н.В. Теоретические и практические проблемы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.В. Пальчикова. – М., 2013.
- Петрухин, И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. Ч. II / И.Л. Петрухин. – М.: ТК Велби, 2005.
- Попов, А.А. Стадия возбуждения уголовного дела: получение объяснений или допрос? / А.А. Попов // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2014. – N 3 (37).
- Сидоренко, О.В. Освидетельствование на стадии возбуждения уголовного дела как проверочное мероприятие / О.В. Сидоренко // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2015. – N 4 (35).
- Халиков, А.Н. Вопросы оптимизации досудебного производства / А.Н. Халиков // Российская юстиция. – 2006. – N 9.
- Шалумов, М.С. Использование материалов, собранных до возбуждения уголовного дела в качестве доказательств / М.С. Шалумов // Уголовный процесс. – 2005. – N 3.