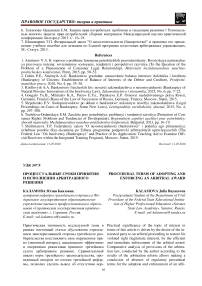Процессуальные сроки принятия и исполнения арбитражного решения
Автор: Каламова Юлия Баязовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.
Бесплатный доступ
Практическая значимость исследуемой темы в рамках настоящей статьи обусловлена стремлением заинтересованной стороны третейского разбирательства восстановить свое нарушенное право (законный интерес), максимально эффективно и оперативно реализовав принятое третейским судом арбитражное решение. Сравнительный анализ норм третейского законодательства, проведенный автором по итогам третейской реформы, позволил сделать вывод об отсутствии нормативного регулирования процессуальных сроков принятия и исполнения арбитражного решения, что, в свою очередь, может значительно снизить гарантированность защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и законных интересов. В статье анализируются правовые проблемы и процессуальные особенности принятия и исполнения арбитражного решения. Автором обосновывается позиция по внесению изменений в действующее законодательство Российской Федерации. В заключении на основе проведенного анализа доктринальных и нормативных источников сформулированы концептуальные предложения по совершенствованию положений Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
Процессуальный срок, третейская процессуальная форма
Короткий адрес: https://sciup.org/142233819
IDR: 142233819 | УДК: 347.9
Текст научной статьи Процессуальные сроки принятия и исполнения арбитражного решения
По итогам обзора научных трудов, посвященных третейскому разбирательству и изданных за последние 10 лет, вынуждены констатировать, что правовой анализ проблем регулирования процедуры принятия и исполнения арбитражного решения в части соблюдения процессуальных сроков довольно редко входит в предмет широкой научной дискуссии представителей цивилистического процесса. Научное исследование по данному вопросу, к сожалению, ограничивается лишь несколькими публикациями в правовой периодической литературе [1; 2]. Вместе с тем полагаем, что в условиях реформы третейского законодательства актуальность заявленной темы заметно возрастает.
Закономерным результатом реформирования третейского законодательства явилось принятие Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон № 382-ФЗ) и Федерального закона от 29.12.2015 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу п. 3 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О саморегули-руемых организациях» в связи с принятием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон № 409-ФЗ).
Ни для кого не секрет, что принятию указанных законов предшествовала длительная и обстоятельная проверка проектируемых правовых норм на предмет их соответствия системе действующего законодательства Российской Федерации и потребностям третейского сообщества, иных участников третейского процесса. В частности, были отмечены недостатки правового характера. Так, по справедливому замечанию П.В. Крашенинникова, «процессуальным вопросам третейского разбирательства посвящена малая часть законопроекта...» [3]. Соглашаясь с мнением П.В. Крашенинникова, отметим, что подробной регламентации требуют не только вопросы доказательства и доказывания, но и процессуальных сроков, являющихся одним из важнейших элементов как гражданской процессуальной формы, так и третейской. Соблюдение процессуального срока, как составного элемента процессуальной формы, представляет собой одну из гарантий эффективной защиты нарушенных и/или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
В юридической литературе нередко можно встретить доводы авторов об имманентности третейскому разбирательству элементов процессуальной формы, подкрепляемые концепцией гражданского процесса в широком смысле с включением в него третейского разбирательства [4, с. 13; 5, с. 70]. Между тем не каждый представитель науки цивилистического 96
процесса готов столь однозначно утверждать о существовании третейской процессуальной формы. Так, по мнению О.А. Рузаковой, третейские суды могут разрешать споры, но не могут осуществлять правосудие, использовать арбитражно-процессуальную форму [6]. Е.А. Виноградова обращает внимание на отсутствие строгой, предписанной законом процессуальной формы третейского разбирательства, что обусловлено диспозитивностью правовых основ при определении правил третейского разбирательства [7]. Г.В. Севастьянов называет два возможных условия применения понятия «процессуальная форма»: либо только после согласования сторонами процедуры третейского разбирательства (третейский суд для конкретного спора), либо при использовании регламента постоянно действующего третейского суда [8]. В то же время представляется, что искомый ответ на вопрос о свойственности третейской процессуальной формы третейскому разбирательству необходимо искать в особенностях правовой природы третейского суда.
Общеизвестно, что в доктрине третейского разбирательства принято выделять ряд концепций правовой природы третейского суда, в числе которых теория смешанной правовой природы третейского суда, получившая признание в российской судебной практике [9]. Следует напомнить, что в рамках названной концепции процессуально-правовые элементы проявляются на последующих стадиях третейского разбирательства.
Исходя из изложенного, справедливо суждение, согласно которому третейская форма защиты гражданских прав возникает из договора, но осуществляется по процессуальным правилам [10]. В этой связи полагаем возможным распространить действие процессуальноправовых элементов как на стадию принятия арбитражного решения, так и на стадию его исполнения. Поскольку при принятии арбитражного решения применимы отдельные элементы процессуальной формы, не исключена необходимость соблюдения процессуальных сроков принятия такого решения и его исполнения. Юристы-практики не раз отмечали преимущество арбитражного решения по отношению к решению государственного суда ввиду сокращенных сроков его принятия.
Безусловно, оперативность и своевременность принятия и исполнения арбитражного решения - ключевые понятия третейского процесса, оказывающие непосредственное влияние на эффективность защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов. Однако итоги реформы третейского законодательства 2013-2015 гг. позволили в этом усомниться.
Законодатель счел возможным предоставить участникам третейского разбирательства свободу процессуальных действий, избрав за основу преимущественно диспозитивный метод правового регулирования.
С 1 сентября 2016 года Закон № 3 82-ФЗ и Закон № 409-ФЗ вступают в силу. Часть 7 статьи 52 Закона № 382-ФЗ предусматривает переходные положения, а именно, со дня вступления в силу Закона № 3 82-ФЗ нормы Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» (далее - Закон № 102-ФЗ) не применяются. В свою очередь, отдельные положения Закона № 102-ФЗ предлагали четкий механизм исчисления сроков принятия третейского решения, сохраняя при этом свое диспозитивное начало. В частности, положения п. 1 ст. 32 Закона № 102-ФЗ предусматривали 15 дней со дня объявления резолютивной части третейского решения для направления сторонам мотивированного третейского решения, при условии, что стороны не согласовали иной срок.
В порядке сравнительного анализа обратимся к нормам Закона № 382-ФЗ.
Во-первых, положения, регулирующие срок принятия арбитражного решения, в Законе № 382-ФЗ отсутствуют.
Во-вторых, п. 8 ч. 2 ст. 34 Закона № 382-ФЗ определил, что в резолютивной части арбитражного решения срок и порядок исполнения принятого арбитражного решения указываются при необходимости. Между тем критерии определения такой необходимости не ясны и законодательно не определены, также как и не определена стадия арбитража, в ходе которой должна быть выявлена необходимость указания в арбитражном решении на срок и порядок его исполнения. Порядок исчисления срока, определенного истечением периода времени, 97
предусмотрен в ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Срок исполнения принятого арбитражного решения, как правило, исчисляется с даты его принятия, поскольку именно с указанной даты арбитражное решение становится обязательным для сторон.
Однако возможность ее указания в арбитражном решении пп. 1 п. 2 ст. 34 Закона № 382-ФЗ ставится в зависимость от наличия договоренности сторон, что, на наш взгляд, не находит своего логического объяснения. В ч. 3 ст. 34 Закона № 382-ФЗ указано, что после принятия арбитражного решения каждой стороне направляется его экземпляр. В то же время из содержания норм анализируемого закона не представляется возможным определить момент принятия такого решения, а также срок, в течение которого арбитражное решение должно быть направлено сторонам. Не исключено, что регламенты постоянно действующих арбитражных учреждений, принятые в соответствии с требованиями Закона № 382-ФЗ, позволят внести ясность при ответе на поставленные автором вопросы. К тому же ч. 5 ст. 45 Закона № 382-ФЗ раскрывает содержание порядка проведения арбитража, установленного правилами постоянно действующего арбитражного учреждения (далее – правила), обозначая порядок и сроки принятия, оформления и направления арбитражного решения как составной элемент правил. Тем не менее, установленный порядок проведения арбитража не всегда носит универсальный характер. Так, в отношении третейского суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора (далее – суд ad hoc), существует ряд ограничений ввиду отсутствия администрирования со стороны постоянно действующего арбитражного учреждения (п. 17 ст. 2 Закона № 382-ФЗ). Причем указанным учреждением лишь в исключительных случаях, когда это предусмотрено соглашением сторон арбитража, могут выполняться отдельные функции по администрированию арбитража в суде ad hoc. Вместе с тем не ясно, что следует понимать под словосочетанием «отдельные функции» и предполагает ли оно в рамках соглашения сторон арбитража гарантированное включение в число таких функций установление порядка и сроков принятия, оформления и направления арбитражного решения.
Таким образом, полагаем, что верхний предел срока для принятия мотивированного арбитражного решения, несомненно, должен быть закреплен законодательно. При этом принцип диспозитивности, определенный в ст. 18 данного закона, может быть довольно успешно реализован при указании в соответствующих регламентах постоянно действующих арбитражных учреждений срока принятия арбитражного решения, не превышающего срок, который будет установлен в Законе № 382-ФЗ. В противном случае будет иметь место рамочный характер Закона № 382-ФЗ.
Действительно, для третейского разбирательства не менее важным источником правового регулирования являются локальные акты, в числе которых определяющую роль для участников третейского разбирательства играют регламенты постоянно действующих третейских судов (арбитражных учреждений).
В этой связи в ходе исследования в качестве экспериментальных выборочно были рассмотрены регламенты десяти постоянно действующих третейских судов, разработанные согласно требованиям действующего Закона № 102-ФЗ. Количество дней, необходимое для изготовления третейского решения в полном объеме и направления его сторонам, варьируется от 5 дней [11] до 20 рабочих дней со дня объявления его резолютивной части. Более половины постоянно действующих третейских судов придерживаются требований п. 1 ст. 32 Закона № 102-ФЗ, устанавливая 10 либо 15 дней [12; 13].
20% третейских судов отводят для данных целей 20 рабочих дней [14; 15] что, напротив, значительно снижает привлекательность третейского разбирательства и ведет к затягиванию процедуры.
Сравнительный анализ положений таких регламентов в части правового регулирования сроков принятия третейского решения вынуждает усомниться в целесообразности отнесения их к разряду диспозитивных. На наш взгляд, придание им императивности на уровне 98
федерального законодательства позволит обеспечить необходимый минимальный уровень процессуальных гарантий, в первую очередь, сторонам третейского разбирательства.
Очевидно, что отсутствие законодательно закрепленных сроков принятия и исполнения арбитражного решения не позволит в полной мере соблюсти и обеспечить юридическую исполнимость арбитражного решения, необходимость достижения которой предписана сторонам и третейскому суду ст. 38 Закона № 382-ФЗ.
Заметим, что в Законе № 382-ФЗ, также как и в Законе № 102-ФЗ, интерпретация понятия «юридическая исполнимость решения» не представлена. В доктринальных источниках предлагается рассматривать юридическую исполнимость решения как соответствие возможности реализации положений судебного решения существующим законным механизмам исполнения [16]. По тексту Закона № 382-ФЗ усматривается два механизма исполнения арбитражного решения – добровольный и принудительный. При этом вызывает сомнение возможность применения термина «юридическая исполнимость» в равной степени как по отношению к добровольному порядку исполнения, так и к принудительному.
Полагаем, что требование о юридической исполнимости решения неслучайно размещено законодателем в ст. 38 Закона № 382-ФЗ наряду с обязанностью сторон, заключивших третейское соглашение, исполнить арбитражное решение в добровольном порядке. Несмотря на то, что добровольность исполнения арбитражного решения заложена и объясняется правовой природой третейского разбирательства, определяющую роль свойство юридической исполнимости решения, по нашему мнению, будет играть именно на стадии добровольного исполнения арбитражного решения. В.Г. Нестолий верно отмечает, что юридическая исполнимость третейского решения не тождественна исполнительной силе, которой обладает определение компетентного суда о выдаче исполнительного листа [17].
Бесспорно, к механизму принудительного исполнения арбитражного решения стороны вправе приступить лишь при условии неисполнения арбитражного решения в добровольном порядке. В то же время нормы Закона № 382-ФЗ не позволяют четко разграничить стадии добровольного и принудительного исполнения арбитражного решения ввиду отсутствия императивной нормы о необходимости обязательного указания в резолютивной части арбитражного решения на срок для его добровольного исполнения.
В этой связи обращает на себя внимание ч. 2 ст. 34 Закона № 382-ФЗ, п. 8 которой допускает возможность не указывать в арбитражном решении ее резолютивную часть, о чем свидетельствует фраза «если стороны не договорились об ином». Следует отметить, что такое положение не отвечает процессуальной составляющей природы третейского разбирательства. Форма и структура арбитражного решения, как элементы процессуальной формы, должны быть соблюдены в строгом соответствии с требованиями процессуального законодательства. Резолютивная часть арбитражного решения есть «ядро» третейского разбирательства, поскольку содержит выводы третейского суда, позволяющие реализовать сторонам свои правомочия и обязательства на последующих стадиях – стадии добровольного исполнения и в исключительном случае – на стадии принуждения к исполнению.
По крайней мере, в Законе № 102-ФЗ представлен оптимальный, на наш взгляд, вариант употребления категории «срок», а именно, посредством указания в п. 4 ст. 45 Закона № 102-ФЗ на то, что заявление о выдаче исполнительного листа может быть подано не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения решения третейского суда. Однако указанная норма в Закон № 382-ФЗ не инкорпорирована, что, в свою очередь, может вызвать немало вопросов в процессе толкования и правоприменения, в том числе положений, изложенных в статьях 34, 38, 41 названного закона.
Кроме того, вызывает сомнение точка зрения М.Э. Морозова о том, что наличие процессуальной формы и ее соблюдение еще не гарантируют соблюдение интересов сторон [18, с. 158].
Напомним, что процессуальный срок входит в состав элементов процессуальной формы. Вопросы достаточности и разумности процессуальных сроков явились предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции Новосибирского областного суда при подготовке 99
апелляционного определения от 11 июня 2013 г. по делу № 33-5020/2013, признавшего верными и основанными на правильном применении норм материального и процессуального права следующие выводы суда первой инстанции: «...Установив, что срок (курсив наш – Ю.К.) для подготовки возражений на иск О. и своевременной явки в третейский суд, исходя из даты отправки извещения, и даты рассмотрения заявления, является неразумным и недостаточным (курсив наш – Ю.К.), судебное извещение не было направлено О. заблаговременно, данных о ее извещении не имеется, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от 09.07.2012 г.» [19].
В заключение настоящего исследования отметим, что вышеизложенные доводы могут служить предпосылкой к следующим концептуальным предложениям правового характера.
Представляется целесообразным внести соответствующие поправки в ч. 2 ст. 34 Закона № 382-ФЗ, указав в числе обязательных элементов в структуре арбитражного решения дату его принятия во вводной части и резолютивную часть в целом.
В п. 8 ч. 2 ст. 34 Закона № 382-ФЗ после слов «указанных расходов между сторонами» словосочетание «а при необходимости» следует исключить как не имеющее процессуальноправового отношения к сроку и порядку исполнения принятого арбитражного решения.
П. 3 ст.34 Закона № 382-ФЗ необходимо уточнить, указав на предельный срок изготовления третейским судом мотивированного арбитражного решения и направления его сторонам, допуская при этом возможность его сокращения либо соглашением сторон, либо на уровне локальных актов постоянно действующих арбитражных учреждений.
Список литературы Процессуальные сроки принятия и исполнения арбитражного решения
- Костин А.А., Елисеев Н.Г. К вопросу о сроках в третейском разбирательстве / Актуальные проблемы международного частного и гражданского права. К 80-летию В.А. Кабатова: Сборник статей / под ред. С.Н. Лебедева. М.: Статут, 2006. С. 143-152 [Электронный ресурс]: доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
- Третейские суды: возможности и преимущества [Интервью с Н.И. Капинусом] / Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 85-88 [Электронный ресурс]: доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс».
- EDN: TOMOUP
- Заключение ответственного комитета (Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству) на проект федерального закона № 788111-6 "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации", внесенного Правительством Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http:/asozd.duma.gov.ru/ main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=788111-6 (дата обращения: 20.04.2016).
- Семенов В.М. К вопросу о ценности гражданского процессуального права и гражданской процессуальной формы / Проблемы совершенствования Гражданского процессуального кодекса РСФСР. Свердловск, 1975. С. 13-15.
- Зейдер Н.Б. Предмет и система советского гражданского процессуального права / Известия Высших учебных заведений. - 6-й год издания. Изд-во Ленингр. ун-та. Правоведение. 1962. № 3. С. 70-71.