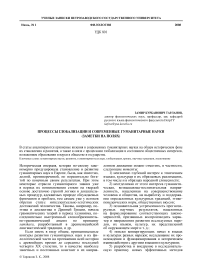Процессы глобализации и современные гуманитарные науки (заметки на полях)
Автор: Тарланов Замир Курбанович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (91), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются кризисные явления в современных гуманитарных науках на общем историческом фоне их становления и развития, а также в связи с процессами глобализации и состоянием общественных интересов, положением образования и науки в обществе и государстве.
Гуманитарные науки, развитие, гуманитарная культура, глобализация, кризис, научные традиции, языкознание
Короткий адрес: https://sciup.org/14749377
IDR: 14749377 | УДК: 801
Текст научной статьи Процессы глобализации и современные гуманитарные науки (заметки на полях)
Историческая инерция, которая по-своему закономерно продуцировала становление и развитие гуманитарных наук в Европе, была, как известно, долгой, противоречивой, но поразительно богатой по конечным своим результатам. При этом некоторые отрасли гуманитарного знания уже в период их возникновения стояли на твердой основе достаточно строгой логики и доказательных процедур, адекватных природе обсуждаемых феноменов и проблем, тем самым уже у истоков обретая статус интеллектуально-эстетических достижений человечества. Таковы, например, поэтика и диалектика в Древней Греции, начала грамматических теорий в период эллинизма, последовательно выстроенный словообразовательно-грамматический анализ по принципу samskara , разработанный в древнеиндийской лингвистической традиции, и др.
Если иметь в виду общие, принципиальные контуры развития гуманитарных наук в их филологической части на протяжении всей истории с древнейших времен до середины последней четверти XX столетия, то в качестве наиболее заметных и постоянных констант в их направ- ленном движении можно отметить, в частности, следующие моменты:
-
1) неизменно глубокий интерес к этническим языкам, культурам в их образцовых реализациях, в том числе и в образцах народной словесности;
-
2) неотделимая от этого интереса гуманистическая, возвышающе-воспитательная направленность, нацеленная на совершенствование человека и общества, на выработку и поддержание определенных культурных традиций, этикоповеденческих норм, общественных вкусов;
-
3) познавательная устремленность прогнозируемых научных результатов, нацеленных на формулирование соответствующих закономерностей, призванных воспроизводить характер и направления развития исследуемых народов, их языков, культур, их представлений об окружающем мире и т. д.;
-
4) поиски конвергирующих начал в языках и культурах разных народов; исследование их происхождения и функционирования в историческом взаимодействии с другими языками и культурами;
-
5) разработка и внедрение в исследовательскую практику новых эффективных методов
и методик анализа материала, подлежащего научному изучению;
-
6) критико-аналитический подход к тому, что было сделано в предшествующей научной традиции, в интересах систематизации наработанных знаний и опыта, а также для обеспечения преемственности в процессе познавательной деятельности;
-
7) обязательное и основательное знакомство с существующей научной литературой и вытекающая отсюда научная корректность;
-
8) органическая включенность важнейших результатов научных исследований в национальную культуру, в содержание школьного и университетского образования; активное участие академических ученых в чтении университетских лекций, в создании школьных и университетских учебных программ, учебников (достаточно в этом плане сослаться, например, на академиков Ф. И. Буслаева, Ф. Ф. Фортунатова, А. А. Шахматова, Л. В. Щербу, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, Д. С. Лихачева и многих других, представляющих русскую научную традицию).
Перечень приведенного типа моментов можно было бы продолжить [1].
В общеевропейской традиции апогея в своем поступательном развитии гуманитарные науки в их филологической, а также этнокультурной разновидностях достигли к последней четверти XIX и к началу - середине первой четверти XX веков.
Именно на этот период приходится, в частности, формирование разветвленной сети отраслей филологического и этнокультурологического профилей с отчетливо обозначенными сферами их компетенций, специальными эвристическими методами, упорядоченной структурой знания.
В основном в это же самое время языкознание с его многоуровневой организацией по многим параметрам отходит от смежных и собственно филологических дисциплин, преимущественно сосредоточиваясь на проблемах, квалифицируемых как внутрилингвистические. Это было одним из направлений в закономерной филиации гуманитарных наук в соответствии с полученными ими внушительными результатами.
На тот же период падает и основная часть влиятельнейших и в высшей степени оригинальных научных школ, благодаря достижениям которых филологическая и этноисторическая культура становится важнейшей составляющей мировой гуманитарной культуры в целом.
Успехи гуманитарных наук едва ли были бы столь впечатляющими, если бы эти науки в согласии с их природой не шли вровень с бурным развитием национальных литератур, культур, образования, социально-экономических отношений, охватившим все европейские страны с самого начала нового времени.
Подтверждением всему сказанному в его национально-культурном воплощении служит русская классическая филология, представленная поразительным многоголосьем научных идей, подходов, направлений и школ, - классика, опора на которую традиционно гарантировала высокое качество филологической науки и филологического фундаментального образования в России.
Однако своеобразие русской классической филологии состоит не только в этом параллельно-органичном многоголосье научных видений и парадигм.
В отличие от соотносительных европейских парадигм научных представлений, которые, как правило, реализовывались в пошаговом режиме, последовательно, в России аналогичные парадигмы при всей их открытости и европейским влияниям развертывались синхронно, горизонтально, и это придавало им характер комплексности, смысл которой в конечном счете сводился к антропоцентризму, к повернутости их в сторону раскрытия и культивирования гуманистических начал в человеке и в человеческих творениях в соответствии с национальными представлениями о добре и зле.
Русской классической филологии абсолютно чужда узость как в подборе материала для исследования, так и в выборе аспектов его анализа и осмысления.
Она всегда тяготела к универсализму.
Что имеется в виду? Приведу несколько примеров.
Так, если иметь в виду начальный период русской филологической классики, то здесь, безусловно, выдающимися фигурами являются Н. И. Греч и Ф. И. Буслаев, которые считаются представителями русской версии логического направления в языкознании, аналогично К. Беккеру в европейской традиции.
Однако ни у Н. И. Греча, ни у Ф. И. Буслаева, как известно, научные интересы не замыкались в логико-грамматическом направлении в языкознании. Они простирались и на историю литературы, и на литературную критику, и на многое другое. Ф. И. Буслаев, к слову, являлся к тому же общепризнанным историком и теоретиком древнерусского искусства, исследователем народной мифологии, народного словесного творчества в широком смысле, крупнейшим и авторитетнейшим методистом. Следовательно, Буслаев-мифолог и исследователь искусства не мог не оказывать влияния на Буслаева-грамматиста, благодаря чему буслаевские толкования грамматических явлений не только лишены ожидаемых условностей логического формализма, но представляют собой необходимые комментарии, подходы к поискам тех глубинных качеств народного мировоззрения, которые в конечном счете и отражаются в языке. И наоборот: Буслаев-грамматист не мог не оказывать влияния на Буслаева-мифолога или теоретика искусства. В принципе такое же разнообразие научных интересов характеризует ученую деятельность и Д. Н. Овсянико-Куликовского, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова, В. М. Жирмунского, М. И. Стеблина-Каменского, Б. А. Ларина - сло- вом, всех, кто причастен к русской филологической классике XIX–XX веков.
Или еще. Последняя четверть XIX века в европейской лингвистической традиции – это период почти абсолютного господства младограмматической парадигмы научных представлений – парадигмы продуктивной, результативной, богато оснащенной надежными эвристическими методами и т. д., но единственно господствующей.
В тот же самый период в русском языкознании своего рода классический младограмматизм в лице, например, того же Ф. Ф. Фортунатова [2] органично уживается, с одной стороны, с Казанским направлением с его несравненно более широким взглядом на язык как предмет языкознания, на правомерность множественности аспектов его изучения, а с другой – с основанной Фортунатовым же Московской формальной школой с ее подчеркнутым интересом к внешнеграмматической организации языка, трактуемого в качестве социального феномена, жизнь которого неотделима от жизни обслуживаемого им социума.
На тот же период приходится и многогранная научная деятельность А. А. Потебни, лингвистические взгляды которого не укладываются ни в одно из упомянутых направлений, но прокладывают оригинальные пути разработки теории внутренней формы слова, исторического синтаксиса и теории поэтической речи. Параллельно же разворачиваются самобытные исследования И. И. Срезневского в области исторической лексикографии и истории славянских языков. И т. д.
Таковы в целом традиции русской филологической, шире – гуманитарной классики, которая складывалась и развивалась комплексно и разнонаправленно [3].
Смысл приведенных сопоставлений состоит не в подчеркивании предпочтительности той или иной территориально-культурной или национальной научной традиции перед другой, а в том, чтобы обратить внимание на известную связь между этой традицией и соответствующей общественно-исторической, культурно-исторической, этно-исторической, культурно-языковой и т. д. ситуацией, в условиях которой она складывалась и существовала.
Русская филологическая классика уже в своих истоках впитала в себя глубокую приверженность изучению процессов взаимодействия культур и языков в силу органичности для России двух отправных культурно-исторических начал, связанных с собственно восточнославянской и церковнославянской речевыми и культурными стихиями, а также многовековым полиэтнизмом ее населения, характеризовавшегося языковым разнообразием. Наука о многообразных культурах, объединенных в рамках единого государства, не могла не быть многообразной.
Это значит также, что подлинная филологическая наука сама – это существенная часть той самой культуры, которую она изучает и тем са- мым систематизирует, объясняет, пропагандирует и оберегает.
Однако начавшиеся в конце XX века на базе английского языка процессы глобализации ставят под сомнение саму перспективу сохранения гуманитарной классики в ее национальнокультурных вариантах в качестве опор высоких стандартов науки и образования в соответствии с исторически выверенными национальнообразовательными представлениями.
Ситуация с этой классикой в современной России усугубляется еще и тем, что процессы глобализации в отечественной истории совпали с не менее разрушительными другими процессами, связанными с утратой огромного нашего государства в многовековых его исторических границах, полной сменой укоренившихся и проверенных научных парадигм, с плохо управляемой и непродуманной реформой среднего и высшего образования, с коренной переориентацией привычных, ставших общественным достоянием, социальных, культурноисторических, моральных предпочтений, в том числе и тех, которые в течение длительного времени воспитывались также с использованием мощного потенциала всемирно признанной русской классической литературы, являвшейся одним из основных предметов школьного образования в СССР.
Нынешняя реальность такова, что русская классическая литература – традиционно главный предмет филологического анализа и изучения – по большому счету отодвинута в сторону за редкими исключениями выборочно выхватываемых авторов, так или иначе вписывающихся в конъюнктуру.
Даже в этой препарированной части литературной классики наиболее привлекательными, достойными исследовательского внимания преподносятся поиски религиозных тем и мотивов.
Богоискательство в литературе стало модой. Складывается впечатление, что вчерашние атеисты превратились в воинствующих богословов. Зачастую кажется даже, что место известной статьи “Партийная организация и партийная литература” вовсе не пустует, а негласно замещена виртуальной догмой “Церковная организация и церковная литература”.
Это не может не вредить и литературе, и религии.
Никакая подлинная литература не умещается в религиозные рамки, ибо она наднациональна и надрелигиозна.
Она объединяет людей, разделенных по самым разным признакам, в том числе и по религиозным. Разделяющей функции религии противостоит объединяющая функция литературы. Даже собственно религиозные образы и фразеология, став частью художественного произведения, трансформируются в эстетические ценности, что доказано опытом словесно-художественной культуры человечества.
Для характеристики степени влиятельности, идеологической авторитетности современных гуманитарных наук вполне показательным является, например, тот факт, что самое эксплуатируемое в них, но при этом семантически не определяемое слово «духовность», которое, судя по всему, призвано выражать нечто образцововысокое, достойное во внутреннем, нравственном состоянии человека и общества, в действительности содержательно погруженным оказывается исключительно в сферу церковно-религиозной аксиологии [4]. Позиция собственно гуманитарных наук как-то не просматривается.
Гуманитарные науки в России, и не только в России, переживают, может быть, один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Ими либо потеряны, либо почти потеряны фундаментальные доминанты, исходно составлявшие их сущность, неотъемлемые от них этнокультурные, социально значимые ценностные ориентиры, вне которых они лишаются общественно признаваемого смысла существования. Чрезвычайно размытыми предстают общеметодологические подходы, которыми они руководствуются.
Насущнейший вопрос для современных гуманитарных наук - это вопрос о том, что является предметом их изучения и какие цели они преследуют. Это коренной вопрос для всякой науки. Но ответ даже на этот коренной вопрос, к сожалению, как-то отчетливо не прослеживается.
Гуманитарные науки все глубже погружаются в процессы, ведущие к дегуманизации их содержания, неуклонно удаляются и самоустраняются от задач, связанных с необходимостью постижения, защиты культур и культурных ценностей человечества, естественно-исторически существующих только в их этнических и зонально-территориальных воплощениях.
Одна из причин такого положения кроется скорее всего в слишком сильной финансовоматериальной зависимости науки от господствующих руководяще-общественных настроений, в соответствии с которыми научно защищаемые глубинные ценностные ориентации общества предстают перевернутыми, а наука в силу упомянутой ее зависимости может лишь констатировать то, что подлежит констатированию.
Поэтому неудивительно, что социумы как определенные системы отношений, в виде которых существовало и существует человечество, по конъюнктурно-политическим соображениям оказались подмененными отдельными персона- ми, индивидами с их правами, которые на деле выводятся за рамки общества.
“Права личности” оказались тем самым важнее и выше прав социумов, обществ, этносов.
При этом упорно не принимается во внимание то, где и как, в каких социальных условиях, структурах эта личность формировалась, на какие права она может претендовать в согласии с ее социально-культурной детерминированностью, в какой мере и насколько она прогнозируемо способна быть лояльной, толерантной по отношению к другим культурам и людям других культур и т. д.
При подобных подходах проблемы культур как ценнейших и важнейших творений народов, как и сами эти культуры, обречены на небытие. История культуры и культур подменяется некой культурологией, которая едва ли имеет свои предмет и методы изучения.
По той же логике, логике “прав личности”, модным стало описывать, изучать не языки и не категории языков в их этнической, историкофункциональной, социально-территориальной, художественно-эстетической, коммуникативнопрагматической и т. д. данно сти, а отдельно взятую “языковую личность”, которая вопреки здравому смыслу рассматривается в качестве имманентного социально-языкового феномена.
Речь, разумеется, идет не о том, что подобные штудии вообще бесполезны, лишены смысла, а о том, что они в научном плане малоинформативны, не ведут к формулированию закономерностей, что и составляет главную задачу любой науки, и поэтому не могут быть преобладающими.
Изучение “языковой личности” - это задача не языкознания, даже не социолингвистики. Это задача индивидуальной психологии, ищущей ответа на вопрос о степени общего развития, степени культурной, в том числе и языковой, компетентности соответствующей личности, сформировавшейся либо формирующейся в определенных жизненных условиях.
Как нельзя судить о достоинствах национальной литературы, о происходящих в ней процессах по степени начитанности/неначитанности в ней того или иного отдельно взятого читателя, так тем более нельзя судить о таком сложнейшем явлении, как язык, по речевым проявлениям какого-то человека, который этим языком пользуется в соответствии с обстоятельствами его индивидуальной жизни.
Путь к познанию языка в направлении от среднестатистической “языковой личности” примитивизирует и язык, и языкознание как науку. Это в принципе то же самое, что изучать семантику языка, отталкиваясь от так называемых “семантических примитивов”.
Из поля зрения современного языкознания как гуманитарной науки уходят целые пласты языковой действительности, в связи с чем просто блоками утрачиваются занимавшиеся ими высокоразвитые отрасли знания, благодаря которым языкознание в свое время стало действительно ответственной и авторитетной наукой.
Речь идет, в частности, о таких областях, как сравнительно-историческое языкознание, историческое языкознание, морфологический строй и морфологические категории языков, историческая и описательная семасиология, синтаксический строй языков (синтаксис как сложная языковая материя), историческая лексикология, словообразование в его развитии, эстетика слова на фоне истории культуры и истории художественно-эстетических парадигм и т. д.
Опираясь почти исключительно на содержательно-идеологические аспекты современных политических дискурсов и речевые материалы СМИ, языкознание, как и филология в целом, отходит от прежних своих строгих стандартов взыскательности и явственно дрейфует в направлении к жанру журналистских комментариев.
Непропорционально выдвинутыми в центр исследовательских интересов оказались лишь те аспекты языкознания, которые связаны с анализом субъективно трактуемых содержательных составляющих слова, - когнитивистика, концеп-тология, философия, семантика и проч.
Соответственно в российских университетах удельный вес историко-теоретических дисциплин в структуре исследований и образования с каждым годом неуклонно падает, и это не может не влиять отрицательно не только на процесс подготовки филологической интеллигенции в стране, но и на качество филологической научной продукции как таковой, включая и профессиональный уровень преподавателей учебных заведений разных уровней.
С сожалением приходится констатировать, что вполне рядовыми стали научные работы, написанные вне какой бы то ни было научной традиции и проблематики, без обращения к существующей специальной литературе, в виде своеобразного монолога-рассуждения на произвольную тему, начиная как бы с нуля, и на случайном фактическом материале, границы, объемы, хронология и жанровая принадлежность которого, как правило, не оговариваются.
Предполагаемый и по логике вещей ожидаемый в соответствии с заявленной темой научный анализ оказывается подмененным импрессионистическими выкладками и заявлениями. Для подчеркивания важности, значимости такого рода свободного “дискурса” прибегают к эпатажу, к отрицанию очевидного, общепринятого. Считается, например, вполне допустимым по научной этике обсуждать проблемы культуры речи с теми, кто заявляет, что не знает, что такое литературный язык. Если участники обсуждения не знают, что такое литературный язык, то у них нет и оснований говорить о культуре речи, оцениваемой, как известно, с точки зрения литературного языка, который сам по себе и есть эта культура. Таких примеров в современной науке, к сожалению, много.
Современные гуманитарные науки все более склоняются к произвольному упрощению объек- тов их изучения, тем самым неоправданно отступая и от достигнутого усилиями предшествующих поколений ученых, и от того, что стало общественно принятым их достоянием.
Критерием оценки при этом все чаще выступает личное субъективное восприятие исследователя. Результаты подобных толкований, естественно, сильно расходятся, порой - до полярности.
Одни из исследователей тяготеют к изолированию того, чем они занимаются, всячески гипертрофируя его самобытность, неповторимость, исключительность, к тому же часто трактуемые в их этно-культурной локализован-ности. Так обстоит дело, например, с выявлением и описанием концептов этнокультуры и этнофилософии.
Другие, наоборот, говорят о сходстве семантической базы языков, полагаясь на их показания на уровне так называемых семантических “примитивов”.
Бесконечное дробление гуманитарных наук, дающая о себе знать тенденция к переименованию вместо скрупулезного изучения соответствующих явлений, все набирающее обороты мелкотемье, очевидная регионализация науки, вызванная разрывом контактов и общения между географически разделенными научными коллективами, дефицит исследований, в которых подвергались бы объективно критическому анализу и систематизации синхронизированные достижения разных отраслей гуманитарного знания по определенным хронологическим срезам, - все это безусловно отрицательно сказываются на состоянии и перспективах развития гуманитарных наук и гуманитарной культуры в целом.
Необходимо иметь в виду еще вот какое обстоятельство. Реформа образования, которая проводится без должного внимания к тому, какова должна быть доля фундаментальных, основополагающих составляющих в системе знаний бакалавров и магистров в гуманитарных областях, степень их вписанности в национальнокультурные традиции, способна обернуться невосполнимыми потерями не только в стратегии подготовки граждански зрелых полноценных профессионалов, но и в сохранении отечественной научно-образовательной базы как веками наработанного национального достояния.
Все эти и другие важные для гуманитарных наук проблемы должны быть в центре современных открытых теоретических обсуждений и дискуссий.
Регулярные печатные издания не вправе не ставить их, ибо это и есть одна из непосредственных их обязанностей, призванных содействовать повышению качества и эффективности как научных исследований, так и образовательной системы в стране в целом.
Если какие-то суждения, высказанные в этих заметках, будут восприняты как достойные публичного обсуждения, то тем самым заметки достигнут одной из важнейших своих целей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИМЕЧАНИЯ
-
1. Более подробно о традициях русской филологической науки см.: Тарланов З. К. О филологических традициях Ленинградского (Петербургского) университета // Вестник Северо-Западного отделения Российской Академии образования. Вып. 4. Университет: единство науки, образования и культуры. СПб., 1999. С. 109–121; Он же. Традиции и перспективы русской исторической филологии на рубеже XXI века // Русская историческая филология: проблемы и перспективы. Доклады Всероссийской научной конференции памяти Н. А. Мещерского / Отв. ред. Л. В. Савельева. Петрозаводск, 2001. С. 8–22.
-
2. См.: Тарланов З. К. Научный метод, историко-сравнительный и сравнительно-типологический аспекты теории формы слова Ф. Ф. Фортунатова (к 90-летию со дня смерти) // Научное наследие академика Ф. Ф. Фортунатова и современное языкознание (к 90-летию со дня смерти): Сборник докладов Международной научно-практической конференции (13–16 сентября 2004 г.) / Отв. ред. З. К. Тарланов. Петрозаводск, 2004. С. 5–15.
-
3. Подробнее см.: Тарланов З. К. О филологических традициях Ленинградского (Петербургского) университета. С. 109–121; Он же. Традиции и перспективы русской исторической филологии на рубеже XXI века. С. 8–22.
-
4. См., напр., словарные статьи “духовный”: Словарь русского языка. В 4 т. Т. I / Гл. ред. второго изд. А. П. Евгеньева. М.: “Русский язык”, 1981. С. 455; Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). Составил священник магистр Григорий Дьяченко. М.: Изд. отд. Московского патриархата, 1993. С. 157.
Список литературы Процессы глобализации и современные гуманитарные науки (заметки на полях)
- Тарланов З. К. О филологических традициях Ленинградского (Петербургского) университета//Вестник Северо-Западного отделения Российской Академии образования. Вып. 4. Университет: единство науки, образования и культуры. СПб., 1999. С. 109-121
- Традиции и перспективы русской исторической филологии на рубеже XXI века//Русская историческая филология: проблемы и перспективы. Доклады Всероссийской научной конференции памяти Н. А. Мещерского/Отв. ред. Л. В. Савельева. Петрозаводск, 2001. С. 8-22.
- Тарланов З. К. Научный метод, историко-сравнительный и сравнительно-типологический аспекты теории формы слова Ф. Ф. Фортунатова (к 90-летию со дня смерти)//Научное наследие академика Ф. Ф. Фортунатова и современное языкознание (к 90-летию со дня смерти): Сборник докладов Международной научно-практической конференции (13-16 сентября 2004 г.)/Отв. ред. З. К. Тарланов. Петрозаводск, 2004. С. 5-15.
- Тарланов З. К. О филологических традициях Ленинградского (Петербургского) университета. С. 109-121
- Он же. Традиции и перспективы русской исторической филологии на рубеже XXI века. С. 8-22.
- Словарь русского языка. В 4 т. Т. I/Гл. ред. второго изд. А. П. Евгеньева. М.: “Русский язык”, 1981. С. 455
- Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). Составил священник магистр Григорий Дьяченко. М.: Изд. отд. Московского патриархата, 1993. С. 157.