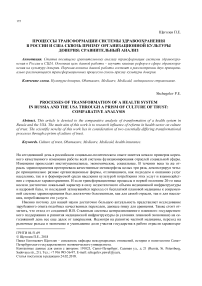Процессы трансформации системы здравоохранения в России и сша сквозь призму организационной культуры доверия: сравнительный анализ
Автор: Щеголев Павел Евгеньевич
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Творчество молодых ученых
Статья в выпуске: 3 (111), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена сравнительному анализу трансформации системы здравоохранения в России и США. Основная цель данной работы - изучить влияние реформ в сфере здравоохранения на культуру доверия. Научная новизна данной работы состоит в рассмотрении двух принципиально различающихся трансформационных процессов сквозь призму культуры доверия.
Культура доверия, медицинское страхование
Короткий адрес: https://sciup.org/148318910
IDR: 148318910
Текст научной статьи Процессы трансформации системы здравоохранения в России и сша сквозь призму организационной культуры доверия: сравнительный анализ
На сегодняшний день в российском социально-политическом опыте имеется немало примеров коренного качественного изменения работы всей системы функционирования отраслей социальной сферы. Изменения происходят институциональные, экономические, социальные. В течении века та же отрасль здравоохранения претерпевала качественные метаморфозы целых три раза, демонстрируя четыре принципиально разные организационные формы, отличавшиеся, как подходом к оказанию услуг населению, так и в формируемой среди населения культурой потребления этих услуг и взаимодействия с отраслью здравоохранения. И если трансформационные процессы в первой половине 20-го века носили достаточно локальный характер в силу недостаточного объема медицинской инфраструктуры и кадровой базы, то последний затянувшийся переход от бесплатной плановой медицины к современной системе здравоохранения был достаточно болезненным, как для самой отрасли, так и для населения, потребляющего его услуги.
Именно поэтому для нашей науки достаточно большую актуальность представляет исследование зарубежного опыта подобных качественных переходов, дающее пищу для сравнения. Также стоит отметить, что отход от созданной И.В. Сталиным системы централизованного планового государственного поддержания и развития медицинской инфраструктуры (в условиях плановой экономики) на сегодняшний день все еще далек от завершения. Несмотря на развитие частной медицины, переход на рыночные рельсы в экономике и уменьшение доли участия государства в работе отрасли здравоохра-
ГРНТИ 04.51.69
Павел Евгеньевич Щеголев – соискатель кафедры международных отношений, истории и политологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Статья поступила в редакцию 24.02.2018.
нения, сложившаяся сегодня система носит компромиссный характер. Что, в свою очередь, актуализирует наблюдение за прямо противоположным процессом – реформой здравоохранения и защиты пациентов в США, так называемой Obamacare.
Несмотря на то, что процессы трансформации отрасли здравоохранения в России и США имели прямо противоположные векторы (в одном случае мы наблюдаем уменьшение участия государства в работе отрасли, в другом – наоборот, государство все больше вмешивается в работу системы, построенной на принципах частной медицины), тем не менее подобные, достаточно резкие изменения правил игры оказывают существенное влияние на формирование культуры взаимодействия потребителей отраслевых услуг и самой отрасли.
Организационную культуру можно также разделить на пространства взаимодействия – внутренняя организационная культура (действующая внутри организации/отрасли) и внешняя организационная культура, определяющая взаимодействие с внешними акторами. При этом внешнюю организационную культуру также можно разделить по основным векторам взаимодействия. Применительно к рассматриваемым реалиям (системе здравоохранения в США) мы можем выделить собственно саму отрасль здравоохранения, потребителей ее услуг, страховой сектор, государство, представленное как властями штата, так и федеральными властями. Применительно к области нашего интереса актуальность представляют векторы отношений, проявляемые потребителями услуг отрасли, именно здесь фактор доверия играет определяющую роль. Поскольку именно результирующая деятельности всех четырех групп акторов и будет способствовать формированию доверия к отрасли.
К сожалению, политический и экономический аспект часто упускаются из виду при рассмотрении организационной культуры доверия применительно к той или иной отрасли. Их влияние носит двоякий характер. С одной стороны, политика и экономика оказывают внешнее воздействие на функционирование всей отраслевой системы, тем самым влияя на качество получаемых услуг и формируемую внешнюю организационную культуру доверия в среде потребителей услуг отрасли. С другой стороны, именно на это влияние может быть списана некоторая часть несоответствия между ожиданиями и реальностью, тем самым способствуя сохранению некоторого кредита доверия в отношении к отрасли.
Стоит также отметить и общий культурный фон, традиционный для США. Свобода экономической самореализации индивида сделала социальные риски повседневной практикой, характерной для США. Более того, не стоит также сбрасывать со счетов и экономическое положение США. М. Тэннер, старший научный сотрудник института Катона, придерживается следующей позиции: «Впрочем, большие расходы на здравоохранение не всегда следует считать негативным явлением. Америка тратит деньги на медицину потому, что она является богатой страной и считает нужным это делать. Экономисты считают медицинские услуги «нормальным товаром», а это означает, что расходы на него имеют положительную корреляцию с уровнем доходов населения. По мере роста упомянутых доходов увеличивается и спрос людей на этот «товар». Поскольку мы – страна богатая, мы вправе требовать – и требуем – большего объема медицинских услуг» [3].
Подобную позицию занимает и У. Рейнхарт из Принстонского университета. По его мнению, около 50% разницы между расходами на здравоохранение в США и других промышленно развитых странах проистекает из большего объема ВВП [5]. То есть, с одной стороны, высокие (относительно других стран) затраты населения на медицину традиционно не являлись такой большой проблемой, для решения которой требовалось бы устанавливать высокий уровень государственного контроля и внедрять принципы централизации, чтобы за счет «эффекта массы» сделать медицину достаточно доступной для широких слоев населения (как это было осуществлено в СССР после сворачивания НЭПовской системы симбиоза между конкретными медицинскими учреждениями и подшефными им предприятиями).
Также нельзя обойти вниманием и историческую традицию, способствовавшую формированию в культуре стереотипов, основанных на либертарианских ценностях. Да и высокий уровень децентрализации, столь же традиционный для США, создавал и создает препятствия для реализации проектов с высоким уровнем централизованности. Высокий уровень экономической самостоятельности населения США и специфика взаимодействия местных и федеральных властей создали идеальные условия для развития системы частного медицинского страхования. Точно так же, как в СССР местная специфика обуславливала необходимость развития всеохватной централизованной системы здравоохранения.
Тэннер, анализируя достаточно низкое место США в рейтингах ВОЗ, отмечает: «Кроме того, низкий балл США в общем рейтинге во многом обусловлен тем, что по параметру «справедливость» они заняли лишь 54-е место. В вину Америке ставится наличие накопительных счетов на медицинские услуги, и в целом тот факт, что, по мнению ВОЗ, наши пациенты оплачивают слишком большую долю этих услуг из своего кармана. В подобных выводах несомненно проявляется определенная политизированность, а не нейтральная оценка качества медицинской помощи населению. Следует также отметить, что ВОЗ ставит США на 1-е место по таким параметрам, как удовлетворение нужд пациентов в плане выбора врача или медицинского учреждения, уважительного отношения, сохранения самостоятельности, своевременности оказания помощи и конфиденциальности» [3].
И даже делая поправку на политические идеалы исследователя, мы видим, что он ставит на первое место возможность выбирать и рассматривает в качестве одного из главнейших достоинств данной системы право выбора пациента и конкуренцию среди представленных на рынке врачей и врачебных учреждений. В этом, с точки зрения соответствия системы требованиям общества, мы также можем провести параллели с советским периодом, когда с государством связывались надежды на создание условий для предоставления медицинских услуг.
В первом случае население было достаточно самостоятельно и обеспечено, а во втором – зависимо от государства и экономически слабо обеспечено. Поэтому в одном случае население было более заинтересовано в «ассортименте» предоставляемых услуг, а в другом – в обеспечении общедоступного минимума. Несмотря на диаметральную противоположность обеих систем, они соответствовали требованиям общества и успели заработать достаточно большой кредит доверия. И несмотря на то, что трансформационные процессы также имели различные предпосылки, не говоря уже о механизмах, в обоих случаях на пути реформ встала проблема социальной инерции и негативное отношение со стороны широких слоев населения.
В России трансформация системы здравоохранения путем включения рыночных элементов и системы страхования была неизбежна в связи с общим переходом работы экономики на рыночные рельсы. Государство, лишившись контроля над потоками ресурсов и привычных источников прибыли, уже не могло обеспечивать стабильную работу всеохватной системы здравоохранения и потому было нацелено на минимизацию издержек. В то же время, рыночные механизмы в отрасли здравоохранения, равно как и практика пользования частной медициной, не могли возникнуть мгновенно на пустом месте. Более того, для многих слоев общества частная медицина (развитие которой в России в постсоветский период имело также очаговый характер) была и продолжает оставаться труднодоступной по экономическим причинам.
Таким образом, процессы трансформации носили вынужденный характер, а сокращение как медицинской инфраструктуры, так и качества оказываемых услуг, вызывало недовольство в обществе, в котором еще с советских времен значительное место занимают патерналистские ценности. Также стоит отметить, что значительная часть недовольства канализировалась в виде отрицательного отношения к политике правительства и государства, хотя это явление и не спасло сотрудников структуры здравоохранения от падения имиджа в глазах населения в сравнении с советскими временами.
Процессы, происходившие в американской системе здравоохранения, носят несколько более сложный, комплексный характер.
Во-первых, за 48 лет (с 1960 по 2008 гг.) наблюдается качественный скачек в росте расходов на здравоохранение относительно других потребностей, практически в пять раз [1]. Однако увеличение затрат не привело к пропорциональному росту качества предоставляемых услуг. Более того, рост затрат на здравоохранение опережает рост доходов и сопровождается негативными демографическими тенденциями.
Во-вторых, существует проблема, характерная для частного страхования – страховые компании склонны к дискриминации в отношении клиентов, находящихся в зоне риска, и стремятся к минимизации своих убытков по страховым выплатам.
В-третьих, внедрение элемента универсальности, всеохватности, и обязательности уже довольно давно является полем для политической игры между республиканцами и демократами, что ведет к возникновению политической ангажированности данной темы и активному ее использованию в пропагандистских целях, искажая общую картину и вызывая поляризацию общества на сторонников и противников по политическому признаку [3].
Также стоит отметить, что система американского здравоохранения часто критиковалась за отсутствие социальной справедливости в подходе к оказанию медицинских услуг, а также в связи с большим количеством незастрахованных. Причем стоит отметить, что даже такие федеральные программы, как Medicaid, оказались неспособны решить эту проблему – доходы многих из незастрахованных лишь незначительно превышают обозначенный порог бедности, ниже которого возможно получение помощи. Кроме того, высокий уровень децентрализации в американских политических практиках ведет к тому, что в каждом штате возникает свой порог бедности, после которого можно рассчитывать на поддержку со стороны данной программы.
По сути, для выправления ситуации и решения обозначенных проблем требовалось отрегулировать систему всеобщего медицинского страхования, таким образом создав конкуренцию между частным сектором и государственным, тем самым способствуя демонополизации (одной из проблем страховых рынков в США была некоторая ограниченность поставщиков страховых услуг, ведущая к повышению цен на страховку) благодаря наличию государственных услуг по страхованию с твердыми ценами. Наличие типового государственного страхового плана также способствовало бы стандартизации оказываемых услуг и осуществления страховых практик.
Конечно, обозначенный план-максимум достаточно утопичен, особенно по меркам реалий США. Разворачивание централизованной системы потребовало бы подавления сопротивления властей штатов. Попытка же развернуть ее на базе региональных центров привела бы к возникновению проблем с системой управления, как это произошло с инфраструктурой по программе Medicaid, только в значительно больших масштабах. Не говоря уже о себестоимости данной структуры. Также появление государства на страховом рынке в качестве активного участника с весьма высокой долей вероятности привело бы к еще большему сужению этого рынка. Поэтому реализация «плана-максимума» представляется практически невозможной, по крайней мере, без долгих предварительных процедур. По этой причине развитие американского здравоохранения происходило полумерами, зачастую в виде политических компромиссов.
Первые шаги в направлении реформ были сделаны в 1965 году посредством внедрения двух федеральных программ, получивших названия Medicare и Medicaid. Впрочем, нужно понимать сложность местных реалий и потому эти программы сложно назвать даже полумерами. Medicare не является обязательной формой страхования, осуществляясь на добровольной основе в отношении старшей возрастной группы (от 65 лет), а с 1975 года также и в отношении инвалидов. При этом, если изначально налог с заработной платы составлял порядка 0,7%, то с 1986 года он держится на отметке в 2,9%. С учетом выплат по OASDI-программам (страхование по старости, по случаю потери кормильца и нетрудоспособности) получается 15,3% [4].
В то же время, стоит отметить проблему демографического перекоса. Она стоит достаточно остро. Увеличение продолжительности жизни и демографический бум 1958 года создали ситуацию, когда количество получателей страховых услуг значительно возросло. Фактически, возрастная пирамида населения США получила «основание», тем самым расширив ту социальную базу, на которую направлена программа Medicare. Таким образом, с каждым годом, в ближайшие 10-15 лет, будет происходить рост численности потенциальных потребителей данной услуги при сохранении существующей базы налогоплательщиков. Что, в свою очередь, должно привести к необходимости поиска новых способов пополнить бюджет.
Впрочем, Medicare имеет не только негативные, но и достаточно положительные стороны в глазах населения. Куда большее недовольство возникает по поводу программы Medicaid, направленной на малообеспеченные слои населения. Подобный патернализм несколько чужд для американской культуры, в которой большое значение имеет личный успех, а не абстрактная социальная справедливость.
Большим шагом вперед стал Patient Protection and Affordable Care Act. Окончательная версия реформы была одобрена в марте 2010 года палатой представителей США [2]. Основными направлениями реформы стали изменения страховых практик, расширение зоны покрытия медицинского страхования, и расширение субсидирования.
Изменения в практики страховой деятельности включали в себя следующие элементы. Во-первых, ужесточение контроля и обеспечение «прозрачности» деятельности страховых агентов (стандартизация страховых планов, система экспертных проверок, публикация стоимости услуг исполнителей и публичное обоснование ценовой политики страховых агентов). Во-вторых, запреты на дискримина- цию в оказании услуг, либо на отказ в осуществлении выплат страхуемым на основании любого социального показателя за исключением возрастного. В-третьих, создание бирж страховых планов для малого бизнеса и простых граждан.
Дополнительное субсидирование затрагивало в первую очередь программы Medicare и Medicaid, а также осуществление дополнительных субсидий малому бизнесу на покупку страховых планов. Расширение покрытия медицинского страхования предусматривало как увеличение порога доступности по программе Medicaid, так и систему штрафов за неучастие (тем не менее, эти штрафы не превышали средней стоимости страхования, равно как и не лишали возможности застраховаться в будущем).
Ряд отечественных исследователей склонен достаточно позитивно рассматривать данную реформу в макроэкономическом плане [1], в то время как на Западе, среди тех же сотрудников института Катона [3], в отношении отхода от рыночных принципов в системе американского здравоохранения наблюдается традиционный скептицизм. К сожалению, многие исследователи оказались также вовлечены в политическое противостояние вокруг Obamacare, и потому по данному вопросу часто занимают полярные позиции.
Реформы Obamacare носят комплексный характер, действуя во многих направлениях, однако, с другой стороны, они также являются своего рода полумерой. «Реформа здравоохранения не приводит к радикальным изменениям в структуре системы здравоохранения США. В этой стране, в отличие от большинства других стран ОЭСР, прямое участие государства в предоставлении услуг здравоохранения ограничено несколькими уязвимыми социальными группами (малоимущие и пожилые). Как правило, услуги страхования предоставляют частные компании. Закон сохраняет подобное положение дел и лишь устраняет некоторые провалы рынка за счет ужесточения требований к страховым компаниям и работодателям, а также создания рыночной площадки (биржи) по торговле страховыми планами» [1].
Таким образом, даже рассматривая современную ситуацию, вызванную приходом в Белый Дом новой команды, и начало процедуры отмены Obamacare республиканцами, можно прийти к выводу, что все далеко не так однозначно. Наиболее вероятными шагами будет попытка уменьшения налогового бремени за счет сокращения субсидирования, а также отмены наиболее спорных положений (например, системы штрафов). Также нельзя не отметить, что если принятие реформ, подобных Obamacare (например, нереализованные инициативы времен прежних времен), сопровождалось агрессивной политической борьбой с активным использованием таких практик как filibuster, то и процесс отмены встретит сопротивление, а конечное решение будет носить компромиссно-половинчатый характер.
Таким образом, сравнивая трансформацию систем здравоохранения в США и России в контексте внешней организационной культуры доверия мы можем отметить следующее: в России процессы трансформации были вызваны экономическими обстоятельствами непреодолимой силы, прямо проистекающими из перехода экономики на рыночные рельсы. Таким образом, можно было затормозить данный переход, делая этот процесс менее болезненным, но более затратным. Однако, вероятно, что готовности к этому не было, как не было и плана по решению данного вопроса быстрыми и жесткими мерами.
Таким образом, в России органы государственной власти зачастую играют роль «громоотвода» для системы здравоохранения, именно на управленцев списывается значительная доля недовольства состоянием дел в отрасли. В остальном процесс протекает достаточно стабильно и предсказуемо, а факторы политической борьбы не имеют в данной области своего отражения.
В США же происходит наслоение политической борьбы на реальные проблемы, и потому принимаемые решения зачастую имеют именно политические, а не практические предпосылки. Однако, с другой стороны, активная политическая борьба, в том числе и на площадке реформирования системы здравоохранения, подобно маятниковому качанию, способствует более активному процессу развития системы здравоохранения. И если некоторые пункты на повестке дня превращаются в своеобразный «шарик для пинг-понга», то многие полезные инициативы и реализованные решения будут оставаться за пределами противостояния, а «жертвами» станут наиболее спорные и неудачные элементы реформ предшественников.
Таким образом, хоть американская политическая система не способна дать радикальные решения, подобным «естественным отбором» им удастся выработать немало отдельных улучшений, каждое из которых хоть и не имеет кардинального значения, но в комплексе мер сможет сделать работу отрасли здравоохранения и медицинского страхования более удобной для потребителя, тем самым способствуя росту и укреплению внешней организационной культуры доверия между населением и отраслью.
Список литературы Процессы трансформации системы здравоохранения в России и сша сквозь призму организационной культуры доверия: сравнительный анализ
- Козлов К. США: краткий обзор реформы здравоохранения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/Review_us_health_reform.pdf (дата обращения 20.02.2018).
- Реформа здравоохранения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://therussianamerica.com/web_NEWS/ articles/4448/1 (дата обращения 20.02.2018).
- ТэннерМ. Сравнительный анализ систем здравоохранения в разных странах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.inliberty.ru/library/49-sravnitelnyy-analiz-sistem-zdravoohraneniya-v-raznyh-stranah# (дата обращения 20.02.2018).
- Payroll Tax Rates 1937 to 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.taxpolicycenter.org/ statistics/payroll-tax-rates (дата обращения 20.02.2018).
- Reinhardt U., Hussey P., Anderson G. US Health Care Spending in an International Context // Health Affairs. 2004. № 3. Р. 11-12.
- Tanner M. Defunding Obamacare: Worth a Try. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nationalreview.com/article/354797/defunding-obamacare-worth-try-michael-tanner (дата обращения 20.02.2017).