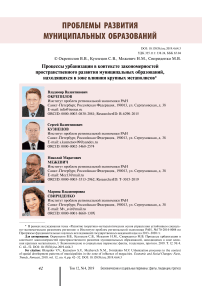Процессы урбанизации в контексте закономерностей пространственного развития муниципальных образований, находящихся в зоне влияния крупных мегаполисов
Автор: Окрепилов Владимир Валентинович, Кузнецов Сергей Валентинович, Межевич Николай Маратович, Свириденко Марина Владимировна
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Проблемы развития муниципальных образований
Статья в выпуске: 4 т.12, 2019 года.
Бесплатный доступ
В современном мире процессы урбанизации стали мировыми и всеобъемлющими. Как справедливо отмечается в подготовленном и принятом Федеральном законе о региональной политике «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», развитие агломераций является важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности экономики российских регионов, экономического роста и технологического прорыва. Можно констатировать, что значимая роль развития мегаполисов как драйверов роста национальной экономики официально закреплена на федеральном уровне управления социально-экономическим развитием территорий. Различные модификации организации экономического пространства глобальной экономики в последние годы актуализируют новые направления научных фундаментальных и прикладных научных исследований, предметом которых должны стать социально-экономические механизмы функционирования мегаполисов и образующихся на их основе городских агломераций, а также изучение их влияния на муниципальную, региональную, национальную и мировую экономику в условиях глобализации. Для достижения высокой степени эффективности применения в нашей стране опыта стран США, Западной и Восточной Европы необходимо интерпретировать результаты международной деятельности в определенном контексте с сохранением основных целевых параметров. Межнациональные процессы урбанизации в российском практикоприменении претерпевают значительные изменения и реализуются в несколько иной интерпретации западного опыта, - субурбанизации. Некоторые результаты анализа активности агломерационного движения в российской и мировой практике демонстрируют некоторое запаздывание нашей страны, что отражается в недостаточном количестве муниципальных образований сверхагломерационного типа - конурбаций и т.д. Изучение теории урбанизации и процессов пространственного и социально-экономического развития, протекающих на территории муниципальных образований, прилегающих к границам мегаполисов, должно стать важнейшей задачей дальнейших научных исследований.
Субурбанизация, агломерация, пространственное развитие, муниципальное образование, зарубежный опыт, мегаполис
Короткий адрес: https://sciup.org/147225048
IDR: 147225048 | УДК: 325.111: | DOI: 10.15838/esc.2019.4.64.3
Текст научной статьи Процессы урбанизации в контексте закономерностей пространственного развития муниципальных образований, находящихся в зоне влияния крупных мегаполисов
Введение. Теория урбанизации и ее практика имеют значимое территориальное преломление. В известной степени нет общеприменимой теории и, тем более, универсальной практики. Есть несколько базовых теоретических положений, прошедших проверку временем. Прежде всего, укажем на классическую, философскую позицию о том, что «мировой город и провинция – основные понятия всякой цивилизации… Вместо мира – город, отдельный пункт, в котором сосредоточивается вся жизнь обширных областей, тогда как все остальное засыхает» [1]. Тезис Шпенглера следует признать важным и весьма актуальным, тем не менее прогнозу уже сто лет, он реализуется, но в достаточно долгой исторической перспективе, в сложнейшей стадийности. Именно поэтому современная версия подобного прогноза выглядит менее категоричной: «глобализующийся мир – это мир городов и окружающих их территорий» [2]. С нашей точки зрения «окружающие их территории» – указание на потенциал пространственное развитие, муниципальное об- и проблемы субурбанизации. «В наше время в ходе индустриализации и урбанизации экономически развитых стран город перестал быть самой высшей и сложной формой организации совместной жизни людей и начал все явственнее и чаще входить в качестве составной части в более сложные общественно-географические образования – агломерации городов» [3]. Акцентируем внимание на том, что это было написано в СССР почти шестьдесят лет назад, но сохраняет свою эффективность и актуальность и в настоящее время.
Для достижения высокой степени результативности применения в России опыта западных стран необходимо интерпретировать результаты международной деятельности в определенном контексте с сохранением основного целевого антуража. Это проблема, как отмечал выдающийся российский экономико-географ, специалист по географии США, и смысл его высказывания заключался в том, что известные специалистам межнациональные процессы ур- банизации в российском практикоприменении претерпевают значительные изменения и реализуются в несколько иной интерпретации западного опыта (в качестве примера - субурбанизация).
У нас, в отличие от Запада, речь идет не о переселении в пригород, а о садовых участках и дачах, которыми обладает большинство жителей городов, то есть о втором доме, а не первом и единственном» [4]. Американский опыт субурбанизации действительно самый интересный, но для постсоветского пространства и самый неприменимый. Американские практики опережают постсоветские и в том числе прибалтийские, как минимум на один этап. Завершение этапа «классической» субурбанизации (утратившей свою актуальность в развитии американского практикоприменения) рассматривают как начало абсолютно нового периода в урбанизационных и субурбанизационных процессах в США [5]. На самом деле формирование метрополитенских ареалов – ключевая форма урбанизации/субурбанизации в США не закончилась, наступает новый этап, характеристики которого и, тем более, теоретическое осмысление которого еще не оформились. В этих условиях следует быть предельно осторожными в заимствовании западного опыта. Это мнение стало достаточно представленным в литературе: завлекательные стремления и эксперименты соотнести эволюционные процессы в пригородах российских регионов с пригородами в западных странах представляются, в настоящих экономических и политических условиях, несвоевременными [6].
Методика исследования территориального (пространственного) развития. Современные представления о территориальной организации общества, как правило, сводятся к рассмотрению ее как модели, позволяющей минимизировать экономические затраты при максимальном социальном эффекте. Закономерно, что проблематика систем расселения в этом случае приобретает особое значение. Особенно явно это проявляется в современных условиях, когда понятие «экономика» в большинстве случаев ассоциируется с городской экономикой или, в крайнем случае, с экономикой субурбанизированных зон.
Специфика теорий пространственного развития заключается в том, что они, как правило, ставят под сомнение справедливость известного утверждения – даже при перестановке слагаемых сумма изменению не подлежит. Вопрос этот нельзя считать академически новым, он получил исчерпывающее освещение в трудах московской и ленинградской (петербургской), новосибирской экономических школ [7].
Применительно к территориальному или пространственному развитию (в данной статье эти понятия используются как синонимы) перестановка экономических «слагаемых» по географическому пространству означает изменение их «суммы». Она может увеличиваться по сравнению с изначально заданными величинами или уменьшаться [8]. В первом случае следует говорить об эффекте или эффективности размещения, во втором случае – о неэффективности [9]. «В странах с полицентричной системой крупных городов выше и показатель ВВП на душу населения, в отличие от стран, где население сконцентрировано в нескольких мегагородах. Вероятно, это связано с тем, что с увеличением количества метрополий возрастает и площадь окружающих их территорий, которые выигрывают от близкого расположения к городской экономике» [10]. Об этом же писал известный специалист по американской и советской урбанизации Блэр Рубл: по его мнению город (как административная единица), в международном масштабе, оказывает решающие влияние в процессе воспроизводства национальных богатств, социального развития, мобилизации инвестиций, применения технических (технологических), кадровых ресурсов в рамках реализации целей в части роста производительности и уровня конкурентоспособности субъекта [11].
Стремление к эффективности неизбежно ведет к концентрации населения в крупных агломерационных зонах. По результатам исследования McKinsey Global Institute: «1,5 млрд. человек или 22% населения проживает в 600 городах и производит более 50% мирового ВВП или 30 трлн. долл. (2007 год), при этом 100 ведущих городов производит 21 трлн. ВВП или 38% мировой экономики… К 2025 году уже 2 млрд. человек или 25% населения будут производить
60% мирового ВВП или 64 трлн. долл.» [12]. Серьёзность этого процесса признана ООН и ее институтами. Так, специалистами, в ежегодном Докладе Всемирного банка о мировом развитии «Новый взгляд на экономическую географию» (2009 г.), выделяется ряд значимых факторов (влияющих на динамичное экономическое региональное развитие):
-
1) агломерационный эффект (активный рост густоты населения территориальных пунктов);
-
2) активность миграционных потоков потенциальных работников;
-
3) передислокация субъектов предпринимательства в рамках нивелирования территориального разрыва со сбытовыми рынками, что достигает максимальных значений на региональном и локальном уровнях (утрачивая, при этом, степень своего предпринимательско-производственного значения) [13].
Это влияет не только на понимание практики, но и на теорию вопроса. Так, известный специалист по урбанистике Блэр А. Рубл отмечает, что существует реальная потребность в пересмотре определения конституитета города – растущие города снижают процент ландшафтной территории посредством распространения на многие сотни квадратных миль в различных направлениях. Кроме того, при прогнозируемом повышении уровня моря растет и число горожан, живущих на побережье или вблизи него, – в том числе 2/5 всех городов-миллионников мира и пятнадцать из двух дюжин мегаполисов (с населением свыше 10 миллионов каждый) [11]. Безусловно, можно увидеть в агломерационных процессах и тяготение к «охвату» всего свободного пространства, как это делает профессор С.С. Артоболевский: «Можно долго спорить о том, связаны ли между собой однонаправленные миграции населения и хозяйства, но остаётся фактом, что усилилась тяга хозяйства сначала к субурбанизированным ареалам, а позднее и к внеагломераци-онным пространствам. Недаром возник даже термин «green-field location»» [14]. Несколько позже данный вопрос получил развитие в трудах С.В. Кузнецова и Н.М. Межевича, указавших на то, что субурбанизация – это не столько трансформация «зеленого поля» в городское пространство, сколько развитие квази-города в нормальную субурбию европейского типа [15].
Такой подход предполагает долгую этап-ность, характерную для этих процессов в Западной Европе:
-
1. «Довоенный»: стимулирование роста – перегрузили.
-
2. «Послевоенный»: разгрузка – субурбанизация (новые и расширяющиеся города) – переразгрузили.
-
3. «Текущий» – стимулирование роста внутренних ареалов, джентрификация [16].
Рассмотрим несколько подробнее эти процессы. Во второй половине XX века во Франции внимательно изучали советский опыт регулирования развития сверхкрупных городов, конечно же, в контексте регулирования роста Парижа. После второй мировой войны во Франции была сформирована система мер региональной, в т.ч. экистической, политики, предусматривающая дополнительное налогообложение предприятий, создающихся в Париже или выводимых в Париж. Равным образом налоговые ставки относительно уменьшались в Руане, Лионе, Бресте, Гренобле, Марселе, Тулузе. Лишь с середины 80-х гг. с ослаблением конкурентоспособности Парижа ограничительные меры был смягчены, но при этом было сохранено государственное финансирование расходов на перемещение предприятий из Парижа.
Еще несколько слов о мировом опыте. Прежде всего, посмотрим на американскую практику. Она не предполагает резкое деление на высокоэффективный центр и периферию. В США принята иная в сравнении с российской группировка городов и городских поселений. Здесь условно небольшая территория (населенный пункт городского типа) обеспечивает проживание порядка 2,5 тыс. человек. Кроме общепринятых классификационных категорий «город», «населенный пункт городского типа», в Соединенных Штатах Америки включены такие категории, как городские или метрополитенские пространства. Главное для нас в том, что «две трети американских агломераций-миллионеров лежат не в одном, а в двух, а то и трех штатах. По нашим понятиям, такое несовпадение административного деления и общественного районирования должно сильно затруднять жизнь в этой стране, тем более что штаты сильно отличаются друг от друга по законодательству, по деловому климату и т.п.» [17]. Эта проблематика рассматривается и Стейном Рок- каном, для этого он вводит категории «центр» и «периферия». «Центр» характеризуется им как обладающая преимущественными правами во всех секторах жизнедеятельности территориальная окрестность в рамках государства. Исключительные права, бонусы и преференции в данной местности обусловлены как уровнем инвестиционной привлекательности, так и степенью влияния факторов организационнокультурного характера.
Специфика провинции (перифирия) отражается в ряде экономических параметров (реализации субъектной деятельности) в контексте социально-статусного выстраивания расположения: центральная часть – провинция [18]. Здесь расположение центральная часть – провинция рассматривается в корреляции позиций ресурсных составляющих со степенью их территориального дистанцирования (но не от пространственно-географического соотношения).
При этом социально-статусная близость к центральной части территорий предоставляет возможность получения ресурсов, что предполагает высокую степень достижения целей деятельности (социально-экономического развития). Что имеет обратный эффект в части периферийного расположения субъектов предпринимательства (ресурсное ограничение, закоснелая жизненная позиция).
Эту позицию разделяет и Стейн Роккан, по мнению которого, периферия, находясь в подчиненном положении, контролируя (не всегда) лишь собственные ресурсы, ощущает силу факторного влияния как на ближних, так и на дальних рынках, а также разобщена с другими регионами (кроме доминирующего) [19].
Необходимо подчеркнуть, что «центры» располагаются и в национально-территориальных границах, и за их пределами. Данная концепция, обусловленная непростым механизмом соглашений среди политических субъектов центра и провинции, выстраивалась со временем (годами, столетиями) в рамках оптимальных условий [20].
Таким образом, можно констатировать, что если в основе содержания теоретических концепций развития городов, как правило, лежит доминирующая парадигма экономического мышления, то практика (и, соответственно, инструменты) управления городами в значительной степени зависит от уровня социаль- но-экономического развития конкретной страны, системы управления, а также подвижности населения.
В связи с этим, на наш взгляд, в России было бы целесообразно уделять серьезное внимание изучению практического опыта в этой сфере в более «продвинутых» с экономической точки зрения странах с целью систематизации и адаптации его для выработки будущей политики в области управления развитием городов и агломераций.
По мнению профессора С.С. Артоболевского, вопросы практикоприменения Западом управления колоссами агломераций расположены в дискуссионном секторе, однако необходимо владеть информацией о различных мнениях в данной области исследований [21]. Результаты исследований международного опыта развитых стран демонстрируют следующее: формирование совместной деятельности в среде административных единиц (где территориально реализуется агломерация) представляет собой ключевой инструмент управления агломерациями.
При этом очерченный вектор административных единиц, в международной практике, обусловливает создание конкурентоспособного положения: повышение цен на недвижимость (в пределах территориальной принадлежности), которая представляет собой базовый элемент формирования их бюджета. Тогда как в России финансирование административных единиц проистекает из бюджета региона.
Отметим, что рассредоточение функций государственной деятельности, вследствие мирового процесса, детерминирует возрастание обязательств административных единиц. Возрастание численности населения в небольших городах осложняет муниципалитетам выполнение задач в части планирования и менеджмента. Что требует инициировать реализацию новых подходов к формированию алгоритмов по реализации планирования и управления, если принимать во внимание факторное влияние (в частности, прирост населения) [22].
Мировой и отечественный опыт пространственного развития и результаты анализа развития агломераций
Общемировыми тенденциями пространственного развития в начале XXI века являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции занимают крупнейшие городские агломерации.
В настоящее время активно идут процессы реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, предполагающей формирование «пространственного каркаса» территории страны с целью развития перспективных центров экономического роста с увеличением их количества и максимальным рассредоточением по территории Российской Федерации, ускорением темпов экономического роста и технологического развития агломераций.
Результаты анализа активности агломерационного движения как в российской, так и в практике международного опыта демонстрируют запаздывание России, что отражается в малом количественном составе форм и альтернатив расселения населения по типу «городская агломерация», недостаточное количество муниципальных средоточений сверхагломерационного типа – конурбаций и т.д. Тем не менее «если раньше население столичных агломераций концентрировалось в Москве и Ленинграде, то, начиная с 90-х годов, оно впервые стало перераспределяться в пользу их областей» [23]. В начале второго десятилетия текущего века данные процессы получили отражение в работах сотрудников Института проблем региональной экономики РАН и Санкт-Петербургского государственного университета [24, 25, 26].
Созданная в советские годы и действующая в настоящее время так называемая моноцентричная модель развития агломераций с концентрацией рабочих мест в ядре мегаполиса имеет ряд объективных недостатков. К наиболее очевидным из них можно отнести значительную загруженность транспортного комплекса (в первую очередь улично-дорожной сети) направленными в одностороннем режиме центр-периферийными потоками, а также снижение инвестиционной привлекательности мегаполиса вследствие высокой стоимости объектов жилого фонда в границах центра агломерации. Современный российский и зарубежный опыт имеет достаточно много примеров расположения в удаленных точках роста агломераций ряда центральных функций, включая научную, культурно-образовательную, исследовательскую и инновационную, администра- тивно-деловую, торгово-развлекательную, что создает необходимые предпосылки для развития на периферии мегаполиса привлекательных ареалов.
Например, на наш взгляд, для крупных агломераций, таких как Московская и Санкт-Петербургская, наиболее актуально размещение двух функциональных видов деятельности с целью развития территорий Московской и Ленинградской областей, прилегающих к границам мегаполисов:
-
• размещение образовательной, научноисследовательской и инновационной функций;
-
• размещение деловой и торгово-развлекательной функций.
Размещению образовательной, научно-исследовательской и инновационной функций было положено начало еще в 1899 году, когда на северо-востоке Санкт-Петербурга начинает формироваться комплекс Политехнического института. В 1950-е годы на Воробьевых горах, являющихся в то время юго-западной окраиной Москвы, строится научно-образовательный комплекс Московского государственного университета. В этот же рассматриваемый период времени в крупных региональных центрах страны (Новосибирск, Иркутск, Красноярск и др.) на окраине развиваются крупные комплексы научно-исследовательских институтов, вокруг которых формируются академгородки. Вблизи Москвы постепенно формируется кольцо наукоградов и центров высокотехнологичных производств (Дубна, Королев, Зеленоград, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Протвино и пр.). Классическими примерами развития научно-образовательной функции в 1950–1970-е годы на территории Ленинградской агломерации являются формирование учебно-научного комплекса Ленинградского государственного университета в Петродворце и размещение Института ядерной физики в Гатчине.
В постсоветский период сохранился вектор в размещении образовательных, научных и инновационных объектов в периферийных частях агломерации, который можно проиллюстрировать известными примерами развития инновационного центра Сколково под Москвой, города-спутника Иннополис под Казанью; на территории Санкт-Петербургской агломерации – по развитию нанопарка в Гатчине, проекта размещения кампуса Высшей школы менед- жмента в Петродворце, потенциальных планов по переезду части кампуса Университета ИТМО в город-спутник Южный.
Мировой передовой опыт демонстрирует большое количество примеров значительных и развитых инновационных, технико-внедренческих кластеров и деловых центров в высокотехнологичных секторах экономики в периферийных зонах агломераций. К наиболее известным примерам можно отнести:
-
– Кремниевая долина в Калифорнии (Соединенные Штаты Америки), сформировавшаяся вокруг Стэнфордского университета в городе Паоло-Альто на периферии агломерации Сан-Хосе;
-
– Наукоград Цукуба (Япония), получивший развитие вокруг целого ряда университетов и научно-образовательных центров на периферии агломерации Токио;
-
– многофункциональный район Лаошань на восточной окраине Циндао (Китай) с крупными образовательными, научными центрами и исследовательскими организациями, выставочными комплексами, промышленной зоной по освоению высокотехнологичных отраслей экономики;
-
– деловой район One Noth, сформировавшийся вокруг одноименной станции метро на юго-западной окраине Сингапура, где действуют национальный и политехнический университеты, несколько высокотехнологичных кластеров (biopolis, fusionopolis, mediapolis и др.);
– многофункциональный район Адлерс-хоф на юго-восточной окраине Берлина (Германия), который развивается в качестве кампуса университета Гумбольдта и связанные с ним научные учреждения, деловой район, медиакластер, современный жилой район, производственная зона высокотехнологичных компаний.
Советский опыт формирования и комплексного развития научно-исследовательских видов деятельности на территории агломерации (например, Новосибирский академгородок) относился к безусловно важным административным и прорывным с точки зрения пространственного развития решениям и послужил базой для похожих решений во многих странах мира. При этом отечественные центры науки формировались изначально на основании принципа замкнутой экосистемы, а их зарубежные аналоги, интегрирующиеся в транспортную систему агломерации, были рассчитаны на кадровые ресурсы всего мегаполиса. Можно сделать вывод, что именно транспортная доступность в сочетании со значительными государственными инвестициями сыграла ключевую роль в формировании многофункциональных кластеров на базе действующих научных центров.
Создание новых рабочих мест и развитие периферийной части агломерации возможно также на базе формирования и развития деловой и торгово-развлекательной функций.
Российский опыт формирования и комплексного размещения многофункциональных общественно-деловых пространств на периферии агломерации широко представлен крупными торгово-развлекательными комплексами вблизи автомобильных кольцевых дорог таких крупнейших мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург (например, комплексы «Мега» на территориях Московской и Ленинградской областей, прилегающие к границам Москвы и Санкт-Петербурга соответственно). В границах периферийной зоны Санкт-Петербургской агломерации размещены крупные многофункциональные проекты (деловые районы «Лахта-Центр», «Аэрополис-Пулко-во», «Экспофорум») с развитием конгрессновыставочных и деловых центров, офисных помещений. В современных условиях основным сдерживающим фактором полномасштабной реализации данных проектов является слабый уровень обеспеченности транспортной инфраструктурой. Московский опыт комплексного размещения в зоне агломерации общественноделовых пространств позволяет выделить такие примеры, как:
-
1. Многофункциональное общественноделовое пространство, расположенное у съезда с МКАД рядом со станцией метро Мякинино (город Красногорск, Московская область). Здесь располагаются крупнейшие торгово-развлекательные комплексы (Вегас, Крокус-Сити молл и др.), выставочный комплекс Крокус Экспо, концертный зал Крокус-Сити холл, комплекс зданий Правительства Московской области.
-
2. Деловой район вблизи развязки МКАД и Киевского шоссе. Здесь сформированы биз-нес-парки Румянцево и Comcity.
-
3. Многофункциональный общественноделовой район Путилково вблизи развязки МКАД и Новокуркинского шоссе. В рамках данного района развивается крупный деловой район Гринвуд и комплекс торгово-развлекательных центров.
Зарубежный опыт пространственного развития агломераций демонстрирует многочисленные примеры комплексного развития крупных общественно-деловых подцентров на периферии мегаполиса, имеющих превосходную транспортную доступность со стороны центрального делового района. К успешным примерам размещения общественных и деловых пространств, располагающихся в периферийной зоне агломераций и имеющих хорошую транспортную доступность, могут быть отнесены:
-
– деловой район Уэстчейз на западной окраине Хьюстона (США), где разместились многочисленные бизнес-центры;
– торговый город Монтигала на северовосточной окраине Барселоны (Испания) на въезде в город со стороны транспортной магистрали В20.
– многофункциональный район Хаабер-сти на западной окраине Таллинна (Эстония), где разместились крупнейшие торговые центры, ряд спортивных комплексов, бизнес-цен-тры, гостиницы.
Также к успешным примерам развитых общественно-деловых пространств, дислоцирующихся в периферийной зоне агломераций и ориентированных на доступность на основании скоростного рельсового транспорта, могут быть отнесены:
-
– многофункциональный район Зличин-Стодулки на западной окраине Праги (Чехия), где на базе двух станций метро развивается крупнейший общественно-деловой район с многочисленными торговыми центрами, офисными парками;
-
– многофункциональный район Итаке-скус на восточной окраине Хельсинки (Финляндия) вокруг одноименной станции метро, где расположились многочисленные торговые комплексы;
-
– многофункциональный район Дорнах на восточной окраине Мюнхена (Германия), где вблизи остановки S-Bahn Мюнхен-Рим разместились офисы многочисленных высокотехнологичных компаний;
– многофункциональный район Матам, сформировавшийся в южной части агломерации Хайфы (Израиль) вблизи транспортно-пересадочного узла Хоф-Акармель, где получили развитие офисы и производственные площадки высокотехнологичных компаний, крупные торгово-развлекательные центры, спортивный комплекс.
Развитие деловой и торгово-развлекательной функций в периферийных районах городских агломераций является распространенной практикой, причем не только в США и Западной Европе, но и в странах Восточной Европы. В отличие от размещения крупных государственных научных центров, данный тип развития территории ориентирован прежде всего на привлечение частных инвесторов и является следствием перераспределения потоков в структуре мегаполиса.
Заключение . Подводя итоги, можно констатировать, что российские процессы субурбанизации имеют тот же генезис, что и аналогичные процессы за рубежом. Однако стадийность в первом и во втором случае различна. С нашей точки зрения процессы урбанизации в России отстают на один, возможно, на два этапа от американских. Россия втягивается в процессы субурбанизации, а в Соединенных Штатах Америки субурбанизация достигла своего предельного развития и трансформируется, в том числе, в явление «возврат в обновленный город». Возможен и целесообразен учет версии и практик процессов субурбанизации в Центральной Европе. Здесь субурбанизация в ряде случаев прошла гораздо дальше, чем в России. Более того, социально-экономические условия, практики трансформации и модернизации здесь близки к российским. Соответственно и верификация результатов субурбанизации в ЦВЕ применительно к России возможна. Пригородные пространства, имеющие традиционное дробное муниципальное деление, не соответствуют стандартам управления урбанизированными территориями. Именно поэтому государства поощряют преобразование муниципальных образований путем их объединения [27, 28]. Это происходит через предоставление дополнительных субсидий, т.е. стимулируется экономически, также возможен и иной вариант – реформа административным путем, через принуждение.
Таким образом, в рассматриваемой перспективе актуализируются новые направления фундаментальных и прикладных научных исследований, предметом которых должны быть социально-экономические механизмы функционирования агломераций и изучение их влияния на развитие муниципальных образований, находящихся в их ареале, а также на региональную, национальную и мировую экономики в условиях глобализации.
Важнейшей задачей дальнейших научных изысканий является изучение теории урбанизации и процессов пространственного и соци- ально-экономического развития, протекающих на территории муниципальных образований, прилегающих к границам мегаполисов, развивающих положения и выводы данного исследования.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования ее результатов с точки зрения совершенствования систем управления агломерационными процессами в социально-экономическом пространстве Российской Федерации, а также муниципальными образованиями, так или иначе входящими в зону влияния крупных мегаполисов.
Список литературы Процессы урбанизации в контексте закономерностей пространственного развития муниципальных образований, находящихся в зоне влияния крупных мегаполисов
- Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 43.
- Ковальский Н.А. О соотношении глобализации и регионализма // Глобализация и регионализм. М., 2001. С. 108.
- Дубровин П.И. Агломерации городов // Вопросы географии. География городов и сельских поселений. Сб. 45. М., 1959. С. 56.
- Смирнягин Л.В. Трудное будущее российских городов // Pro et Contra. 2007. № 1. С. 56-71.
- Gallagher L. The End of the Suburbs: Where the American Dream Is Moving. New York, 2014; De Jong J.K. New SubUrbanisms. London: Routledge, 2013.
- Бреславский А.С. Какой может быть российская субурбанизация? // Мир России. 2016. № 1. С. 89.
- Кузнецов С.В. Межевич Н.М. Исследования экономического пространства России в трудах А.Г. Гранберга // Современные проблемы пространственного развития. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти и 75-летию со дня рождения академика А.Г. Гранберга / СОПС, ИЭОПП СО РАН. М., 2012.
- Kuznetsov S.V., Mezhevich N.M., Lachininskii S.S. The spatial recourses and limitations of the Russian economy modernization: the example of the North-West macro region. Journal "Economy of Region", 2015, no.3.
- Кузнецов С.В. Межевич Н.М. Экономическое пространство России: теория и практика. СПб., 2012.
- Урбанизация и ее последствия: век мегаполисов / Институт социологии РАН // Наука за рубежом. 2015. № 41. С. 12.
- Рубл А. Блэр. Мировой опыт в эпоху городских агломераций: уроки для управления Москвой // Логос. 2013. № 4. С. 269.
- Urban World: Mapping the Economic Power of Cities. Richard Dobbs and & - McKinsey Global Institute. McKinsey & Company. March 2011. P. 62.
- Новый взгляд на экономическую географию: доклад о мировом развитии. М.: Весь Мир, 2009. 384 с.
- Артоболевский С.С. Западный опыт реализации региональной политики: возможности и ограничения практического использования // Региональные исследования. 2008. № 3 (18). С. 8.
- Кузнецов С.В., Межевич Н.М. Проблемы прогнозирования пространственного развития на примере Стратегии социально-экономического развития СЗФО на период до 2020 года // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук; отв. ред. В.И. Герасимов. 2018. С. 987-989.
- Артоболевский С.С. Регулирование городских агломераций (аналитический материал) // Русский архипелаг: сетевой проект "Русского мира". 2011.// http.: www.archipelag.ru
- Смирнягин Л.В. Российский федерализм: парадоксы, противоречия, предрассудки. Серия «Научные доклады». № 63. М.: Московский общественный научный фонд, 1998. С. 15.
- Портер М. Конкуренция. М., 2001. С. 245.
- Rokkan S., Urwin D.W. Introduction: centres and peripheries in Western Europe. In: Rokkan S., Urwin D.W. (Eds.). The Politics of Territorial Identity. Studies in European Regionalism. London, Beverly Hills, New Delhi, 1982. P. 5.
- Кузнецов С.В., Межевич Н.М. Геоэкономические ограничители в обновленной стратегии Северо- Западного макрорегиона России // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. 2015. № 15 (20). С. 97-100.
- Артоболевский С.С. Крупнейшие агломерации и региональная политика: от ограничения роста к стимулированию развития (европейский опыт) // Крупные города и вызовы глобализации / под ред. В.А. Колосова и Д. Эккерта. Смоленск: Прометей, 2013. 280 с. С. 261-271.
- Народонаселение мира - 2007. Программа Хабитат. С. 2.
- Пчелинцев О.С. Переход от урбанизации к субурбанизации// http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0219/analit04.php
- Межевич Н.М., Лачининский С.С., Береснев А.Е. Эффекты местоположения и экономическое развитие Санкт-Петербургского крупногородского ареала // Псковский регионологический журнал. 2016. № 2 (26). С. 9-20.
- Межевич Н.М. Пространственное развитие Санкт-Петербургской агломерации: некоторые исторические параллели современных экономических практик // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Теория и практика управления. 2015. № 15 (20). С. 82-86.
- Кузнецов С.В., Межевич Н.М. Вопросы теории территориально-политической и хозяйственной организации пространства // Экономика и управление. 2015. № 9 (119). С. 8-13.
- Свириденко М.В. Управление социально-экономическим развитием сельских поселений в контексте изменения статуса муниципального образования и исполняемых полномочий // Модернизация российской экономики. Прогнозы и реальность: сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 2017. С. 535-544.
- Свириденко М.В. Бюджетно-финансовое обоснование изменения статуса муниципального образования в контексте активизации его социально-экономического развития // Региональная экономика и развитие территорий / под ред. Л.П. Совершаевой. СПб.: ГУАП, 2017. №1 (11). С. 217-222.