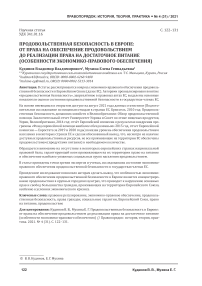Продовольственная безопасность в Европе: от права на обеспечение продовольствием до реализации права на достаточное питание (особенности экономико-правового обеспечения)
Автор: Кудинов В. В., Мухина Е. Г.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Международное право. Европейское право
Статья в выпуске: 4 (31), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы экономико-правового обеспечения продовольственной безопасности в Европейском Союзе (далее ЕС). Авторами проанализировано понятие «продовольственная безопасность», закреплённое в правовых актах ЕС, выделены основные показатели оценки состояния продовольственной безопасности в государствах-членах ЕС. На основе имеющихся в открытом доступе на август 2021 года данных статистики (Подготовительное исследование по пищевым отходам в странах ЕС. Брюссель. 2010 год; Продовольственная безопасность домашних хозяйств в Великобритании: Обзор продовольственной помощи. Заключительный отчет Университет Уорика и Совет по этике пищевых продуктов, Уорик, Великобритания, 2014 год; отчёт Европейской комиссии о результатах внедрения программы «Фонд европейской помощи наиболее обездоленным» 2015 год, отчет Европейской комиссии - Евростата за 2019 и 2020 годы) показан уровень обеспечения продовольствием населения в некоторых странах ЕС и сделан обоснованный вывод, что, несмотря на наличие доступных продовольственных ресурсов, не все проживающие на территории ЕС обеспечены продовольствием (продуктами питания) в необходимом количестве. Обращается внимание на отсутствие в некоторых европейских странах национальной правовой базы, гарантирующей всем проживающим на их территории право на питание и обеспечение наиболее уязвимых социальных групп населения продовольствием. В статье приведены точки зрения экспертов и ученых, исследовавших состояние экономико-правового обеспечения продовольственной безопасности в государствах-членах ЕС. Проведенное исследование позволило авторам сделать вывод, что особенностью экономико-правового обеспечения продовольственной безопасности в Европе является концентрирование продовольствия в крупных городских центрах, что приводит к нарушению основных прав и свобод большинства граждан, проживающих на территории Европейского Союза, особенно в условиях экономического кризиса.
Правовое регулирование, экономико-правовое обеспечение, продовольственная безопасность, права граждан, социальные гарантии, европейский союз, право на питание, продовольствие
Короткий адрес: https://sciup.org/14121570
IDR: 14121570 | УДК: 341.01.16
Текст научной статьи Продовольственная безопасность в Европе: от права на обеспечение продовольствием до реализации права на достаточное питание (особенности экономико-правового обеспечения)
В 2008 году экономический кризис охватил Европу и серьезно ударил по занятости, производственной системе и безопасности человека. Различной степени последствия экономического кризиса ощущались в странах Евросоюза и были более серьезными в Южной Европе, где рецессия усугублялась пагубными последствиями политики жесткой экономии.
Рост безработицы и отсутствие гарантий занятости, наряду с падением уровня доходов и неэкономическими последствиями, имели значительное влияние на условия жизни европейских граждан. Это привело к росту бедности, социальной изоляции и числа людей, испытывающих недостаток в продуктах питания.
Описание исследования
Изучением проблемы обеспечения продовольственной безопасности государства занимались в разное время как отечественные, так и зарубежные исследователи. В современных условиях данный вопрос приобрел особую значимость и актуальность. Сегодня необходимо переосмыслить наши подходы к тому, как выращиваются, распределяются и потребляются продукты питания. В идеальных условиях сельское, лесное и рыбное хозяйства могут обеспечить полноценным питанием всех проживающих как в мире в целом, так в каждом государстве или регионе в отдельности и генерировать адекватный уровень дохода, поддерживая при этом интересы людей в контексте развития сельского хозяйства и мер по защите окружающей среды.
Важнейшей предпосылкой эффективного обеспечения продовольственной безопасности государства является создание и поддержание на должном уровне правового регулирования в данной сфере.
Официально принятое определение продовольственной безопасности разработано на Всемирном продовольственном саммите в 1996 году. В нём продовольственная безопасность описывается как положение, в котором «Все люди в любое время имеют физический, социальный и экономический доступ к безопасной и питательной еде в достаточном количестве, отвечающей диетическим потребностям и пищевым предпочтениям для активной и здоровой жизни»1.
Некоторые вопросы обеспечения продовольственной безопасности отражены в концептуальных документах (Декларациях, международных стандартах и т. д.) международных организаций и объединений.
Так, например, в перечне международных пищевых стандартов (Кодекс Алимента-риус) определены принципы и руководящие указания для обмена информацией по обеспечению продовольственной безопасности в чрезвычайных ситуациях (CAC/GL 19-1995)2. Указания предусматривают руководства для реагирования на чрезвычайные ситуации в области продовольственной безопасности. Они применяются к ситуациям, когда компетентным органам становится известно о чрезвычайной ситуации в области продовольственной безопасности и необходимо совершить действия по обмену информацией об этой ситуации и о рисках, возникающих в связи с ней.
В силу торговой глобализации и увеличившегося объема операций по импорту/экс-порту возможно, что ответственность за меры по преодолению чрезвычайных ситуаций в области продовольственной безопасности возлагается на несколько компетентных органов, кроме того, в целях эффективного реагирования требуется своевременное и согласованное взаимодействие между соответствующими структурами, включая операторов пищевого сектора и потребителей. Чрезвычайной ситуацией в области продовольственной безопасности признается ситуация, возникшая случайно или созданная преднамеренно, которая определяется компетентным органом как представляющая серьезный и пока еще не контролируемый риск для здоровья населения, передаваемый с пищевыми продуктами, который требует принятия срочных мер.
О возникновении чрезвычайной ситуации в области продовольственной безопасности, которая несет последствия международного масштаба информируется ВОЗ в соответствии с Международным положением о санитарии и INFOSAN.
Обмен информацией должен осуществляться на основе принципов анализа риска, признанных Комиссией Кодекса Алимента-риус. Компетентный орган ответственный за управление и информирование о чрезвычайной ситуации в области продовольственной безопасности, должен незамедлительно связаться с официальным(и) контактным(ми) пунктом(ми) (например, Пунктом для экстренной связи INFOSAN) страны и с соответствующим компетентным органом других возможно пострадавших стран.
В Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности 2009 года (далее Декларация 2009 года), отмечено, что продовольственная безопасность существует, когда «все люди всегда имеют физический, социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасного и питательного продовольствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений для ведения активной и здоровой жизни. Четырьмя основами продовольственной безопасности являются следующие: наличие, доступ, использование и стабильность. Аспект, касающийся питательности, является неотъемлемой частью концепции продовольственной безопасности»3.
Согласно оценкам международных экспертов, для того чтобы прокормить население мира, численность которого, как ожидается, превысит в 2050 году 9 млрд человек, потребуется увеличить к этому году объем производства сельскохозяйственной продукции на 70 процентов. Поэтому необходимо усиление международной координации и регулирования мер по обеспечению продовольственной безопасности на основе Глобального партнерства по сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и питанию, центральным элементом которого является Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ).
Особое значение в сфере обеспечения продовольственной безопасности имеет Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудни-чество1. В Декларации лидеров АТЭС 2016 года отмечается, в сфере обеспечения продовольственной безопасности АТЭС способен внести вклад в ответ на вызовы в области продовольственной безопасности и безопасности продуктов питания при одновременном сохранении природных ресурсов путем принятия мер по дальнейшему развитию устойчивого сельского хозяйства, пищевой промышленности, лесопользования, рыболовства и аквакультуры; укреплению рынков продовольствия; встраиванию производителей продовольствия в профильные национальные и глобальные стоимостные и сбытовые цепочки; сокращению количества отходов и потерь продовольствия; ликвидации слабых мест, возникающих по причине инфраструктурных разрывов; снятию обременительных и излишних ограничительных мер в торговле в соответствии с Пьюрской декларацией о продовольственной безопасности в регионе АТЭС; а также за счет содействия наращиванию потенциалов, в том числе посредством облегчения условий для внедрения инноваций, таких как использование ИКТ и профильных технологий.
В Европе продовольственная безопасность измеряется специальным показателем, согласно которому человек состоит в группе риска, если его уровень жизни (доходов) можно отнести к одному из трёх показателей:
— «риск бедности» — это показатель относительной бедности после учета социальных выплат, налогов и других отчислений. Он оценивает количество лиц, семейный доход которых ниже порога «риска бедности», установленного на уровне 60 % от медианного значения по стране;
-
— «состояние тяжелой депривации», когда человеку трудно поддерживать по крайней мере четыре из девяти потребностей и услуг: своевременная оплата аренды или счетов за коммунальные услуги; адекватный обогрев жилища; оплата неожиданных расходов; питание мясом, рыбой или вегетарианским эквивалентом через день; наличие недельного отпуска; наличие автомобиля; наличие стиральной машины; наличие цветного телевизора или мобильного телефона;
— «принадлежность к семьям с очень низкой интенсивностью труда», учитываются лица в возрасте 0–59 лет, проживающие в домохозяйствах, где взрослые (18–59 лет) отработали в среднем менее 20 % своего рабочего потенциала за последний год. Студенты не учитываются.
Как следует из опубликованных данных Евростата за 2019 год 11,3 %, то есть почти 58 миллионов человек в Европе, не могут себе позволить богатую белком пищу хотя бы раз в два дня, и таким образом не соблюдают вышеупомянутый критерий о питании мясом, рыбой или вегетарианским эквивалентом.
Высшим показателем в этой сфере отличается Болгария с 43,8 % в 2018 году, что всё же ниже уровня в 65,2 % в 2013-м. Среди стран Средиземноморья состояние депривации более распространено в Италии, где в 2018 году 16 % населения не могли себе позволить регулярно питаться богатой белком пищей, тогда как в Греции показатель равен 13,1 %. В обоих случаях отмечается рост процентных показателей в сравнении с данными за 2015 год, по которым депривация была равна 10,8 % в Греции и 14,3 % в Италии.
Если взглянуть на тенденцию с 2015 по 2018 годы, в обеих странах показатели выше, чем в среднем по Европе. В 2018 году в Европейском союзе уровень отсутствия продовольственной безопасности снизился до 11,3 % по сравнению с 12,4 % в 2015 году. Тем не менее, в Испании, хотя и имеющей показатель ниже среднего по Европе, отметился наибольший рост с 3,9 % в 2015 году до 6,2 % в 2018-м. Таким образом, число людей, которые не могут позволить себе белковую пищу каждые два дня, увеличилось почти вдвое.
Согласно показателю, известному как «Шкала оценки отсутствия продовольственной безопасности», объединяющему цифры Евростата с результатами опроса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (2013 г.), в Испании 12 % детей в возрасте до 15 лет живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности. Ситуация не лучше в Греции (15,7 %),и хотя в Италии наблюдается более низкий показатель (8,8 %), он всё же служит поводом для беспокойства.
Интересный аспект, который следует подчеркнуть, заключается в том, что отсутствие продовольственной безопасности означает не просто недостаточный доступ к еде, но условия бедности также могут привести к состоянию несбалансированного питания. Фактически, необходимость сокращения бюджетных расходов не только снижает количество потребляемой пищи, но также ведет к понижению её качества [1, с. 5]. Таким образом, ответ на вопрос Дитца «Может ли голод вызвать ожирение?» в некоторых случаях оказывается положительным [2, с. 16].
Фактически, по данным ЮНИСЕФ (2017 г.), в период 2014–2015 годов 18 % детей в возрасте от 11 до 15 лет в Италии, 20,9 % в Греции и 17,3 % в Испании страдали ожирением или избыточной массой тела. Дети оказываются одними из первоочередных жертв неблагополучного социального контекста. В ответ на это в столовых государственных школ были введены программы, обеспечивающие сбалансированное и качественное питание. Примерами являются стипендии, предоставляемые местными госучреждениями, такими как муниципалитет Барселоны с программой «Becasde Comedor» (продовольственные гранты), или фондами судовладельцев, такими как «Фонд Ставроса Ниархоса» в Греции с его программой «Продовольственная помощь и пропаганда здорового питания».
Основные результаты проведенных исследований показывают, насколько ненадежно связывать проблему отсутствия продовольственной безопасности исключительно с уровнем экономического развития, ограничивая при этом границы её географии сельскими районами развивающихся стран. В самом деле существует ещё один резко контрастирующий сценарий, в котором отсутствие продовольственной безопасности также затрагивает богатые промышленно развитые страны [3, с. 407], при котором наблюдается рост спроса на продовольственную помощь и число активных продовольственных банков [4, с. 25]. Социальные категории, наиболее затронутые этой проблемой — это женщины, дети до 15 лет и люди старше 65 лет. Согласно отчёту Европейской комиссии за 2015 год о результатах внедрения программы «Фонд европейской помощи наиболее обездоленным» (Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD) из 11 миллионов получателей помощи 51 % составляют женщины, за которыми следуют 3 миллиона молодых людей в возрасте до 15 лет и 1,2 миллиона человек старше 65 лет. Среди бенефициаров также числятся 719 708 мигрантов, включая беженцев и детей, 621 979 человек с ограниченными возможностями и 69 451 бездомных лиц.
При том, что с одной стороны имеет место быть избыток производства продуктов питания, являющегося причиной проблемы с количеством пищевых отходов [5, с. 34], с другой стороны растет число людей, не имеющих доступ к продовольственным ресурсам в связи с отсутствием места трудоустройства, достаточного дохода и социальных выплат. Таким образом, существует конфликт между доступными на рынке ресурсами и права доступа к ним. Этот конфликт часто находит своё решение в перераспределении избытков производственной системы.
Фактически, в некоторых европейских странах отсутствует национальная правовая база, гарантирующаягражданам право на питание (не упомянуто в конституциях европейских стран1) и обеспечивающие действенные формы поддержки доходов для наиболее уязвимых социальных групп, привело к распространенности подхода, построенного на доступности питания, и, следовательно, на снабжении продовольствием. Таким образом, акцент на «доступности» еды отражен в европейской статистике, оценивающей «количество» полученного питания, подчеркивая количественный характер депривации, так и в политике, ориентированной на распределение европейских сельскохозяйственных излишков на благотворительные нужды2.
Европейская приверженность решению проблемы отсутствия продовольственной безопасности берет начало в 1987 году, когда Жак Делор, в то время президент Европейской комиссии, учредил Программу распределения продуктов питания среди особо нуждающихся (Food Distribution Programme for the
Most Deprived Persons, PEAD) в рамках Общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP). В рамках программы происходило распределение излишков сельскохозяйственной продукции, запасенной в периоды, когда производство превышало спрос (в середине 1990-х также дополнялось рыночными закупками продовольствия). Поддержка направлялась в страны, желающие поддержать особо нуждающихся и обездоленных граждан. Эта программа была основным средством снабжения для всех благотворительных организаций по всей Европе [6, с. 5].
В феврале 2014 года PEAD заменена Фондом европейской помощи наиболее обездоленным (Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD). Этот переход связан как с непредсказуемостью доступных запасов и возможным крахом системы в связи с реформами Общей сельскохозяйственной политики, так и с необходимостью принятия широкомасштабных мер, направленных на противодействие крайне критической ситуации — в 2014 году наблюдалось почти 50 миллионов человек, находящихся в условиях тяжелых материальных лишений на территории процветающих стран ЕС. Это значит, что у 8,9 % жителей Европы не имелось достаточно средств, чтобы отапливать свои дома, позволить себе белковую пищу или покрыть непредвиденные расходы.
В целом это привело к принятию «чрезвычайного» подхода к проблеме отсутствия продовольственной безопасности, нежели «структурного». Этот подход не учитывает весь спектр факторов, определяющих состояние продовольственной безопасности, а вместо этого создает сомнительную взаимозависимость с проблемами избытка пищевых отходов.
По мнению авторов, отсутствие системы обеспечения продовольственной безопасности в ЕС заключается не только отсутствие доступа к количеству еды, необходимого для выживания, но также подразумевает отсутствие самодостаточности и контроля над собственным питанием со всеми вытекающими социальными эффектами.
Таким образом, разумно включить анализ продовольственной безопасности в более широкое исследование «социальной изоляции» с точки зрения лишения основных свобод [9, с. 34]. Так как социальная изоляция играет как «образующую», так и «способствующую» роль в ограничении основных свобод человека. Образующую, поскольку невозможность свободно контактировать с остальными и чувствовать себя частью общества само по себе является значимым лишением, способствующим приходу к состоянию обнищания. Например, если рассмотреть эффекты состояния отсутствия продовольственной безопасности: беспокойство по поводу отсутствия самодостаточности в нахождении пищи, стыд, социальная стигма, унижение, и, как следствие, социальная изоляция. Социальная изоляция также играет «способствующую» роль. Например, потеря доступа к рынку труда, и отсутствие возможности найти надежную и достойно оплачиваемую работу может привести к другим формам лишений в отношении питания, здоровья и жилищных условий. Все это существенно влияет на социальные отношения.
Многими экспертами подчеркивается взаимосвязь между экономическим кризисом и ростом числа инициатив, направленных на «коллективное» решение проблемы роста уровня бедности и отсутствия продовольственной безопасности [10, с. 54]. Кризисные меры привели к различным эффектам, которые различаются в зависимости от того, имела ли та или иная инициатива официальный или же неформальный характер [11, с. 48].
В отношении инициатив, имеющих официальные договоренности, в период 2008–2010 гг. произошли значительные бюджетные изменения, поскольку частные благотворители, фонды и правительства значительно урезали их экономическую поддержку [12, с. 33]. Как результат, эти инициативы были вынуждены сократить свою деятельность и штат. Это подтверждается рядом исследований об эффектах экономического кризиса на коллективные действия в Европе [13, с. 7]. Этот кризис также увеличил разрыв между небольшими и крупными официальными организациями.
Более того, из-за сокращения социальных расходов в странах Южной Европы, организации, которые традиционно полагались на государственную поддержку, были вынуждены расширять свои сети сотрудничества и искать экономическую поддержку у европейских фондов [14, с. 23].
Таким образом, экономический кризис оказал двойное воздействие на коллективные инициативы. Во-первых, он возродил официальные (например, НПО) и неформальные ассоциации в качестве сетей солидарности и групп помощи [15, с. 269]. Во-вторых, как следствие политики жесткой экономии, он побудил официальные организации искать финансирование на европейском уровне, освобождая их от зависимости от национальных правительств. Например, в результате кризиса некоммерческий сектор Греции совершил переход от государственной финансовой поддержки к фондовой. Благотворительные фонды, такие как фонды судовладельцев, играют ключевую роль в поддержке коллективных инициатив, а также в развитии исследований с социальными целями. К примеру, в 2013 году Фонд Ставроса Ниархоса в сотрудничестве с исследовательской группой под руководством профессора Саломе Папаспиру Рао из Университета Рутгерса (Нью-Джерси, США) написал первое исследование по проблеме отсутствия продовольственной безопасности в Греци-и,а также организовал раздачу бесплатных обедов в школах с целью решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности среди детей.
Как отмечается исследователями, экономический кризис оказался серьезным вызовом для традиционных программ борьбы с бедностью и стимулировал участие различных социальных субъектов (муниципалитетов, частных фондов, кооперативов, организаций, неформальных сетей, профсоюзов, предприятий, а также Католической и Православной церквей) в развитии новых социальных структур: аптек солидарности, супермаркетов солидарности, городских садов и самоуправляемых социальных столовых [16, с. 15].
К примеру, муниципальная программа «Киада» в Афинах, которая представляет собой бесплатную столовую, раздающую ежедневное питание мигрантам, бездомным и наркозависимым, предоставляется «Apostolì» — неправительственной организацией Православной церкви. Apostolì имеет сложную структуру: снабжает городские столовые в Афинах готовыми блюдами; имеет собственную столовую для нуждающихся, раздает продуктовые наборы;оказывает поддержку около 4000 семей, предоставляя кредитные карты, которые можно использовать только для покупки свежих продуктов;
учитывая, что столовых и продуктовых наборов недостаточно для решения проблемы бедности, Apostolì предоставляет финансовую поддержку сельскохозяйственным кооперативам в Северной Греции.
Интересной является программа «Barikamà» («Стойкость» на языке народа Бамбара) — социальный кооператив мигрантов, созданный благодаря поддержке закупочных групп, известных в Италии под аббревиатурой GAS (Gruppidi Acquisto Solidali), и прочих местных инициатив в Риме (Италия).
Программа «OAllos Anthropos» («Другой человек») — это инициатива, разработанная для коллективного решения проблемы растущего отсутствия продовольственной безопасности в Афинах (Греция). Совместное приготовление пищи прямо на улице, не делая различий между тем, кто является нуждающимся, а кто — нет. Каждый день на главных площадях Афин собираются люди, чтобы разделить трапезу: туристы, студенты, бездомные, мигранты и т. д. Это способ предотвратить социальную изоляцию тех, кто живет в бедности, при этом сохраняя их чувство достоинства.
Общественная организация «Espigoladors», занимается сбором фруктов и овощей с полей или в супермаркетах в Барселоне (Испания), которые не могут быть проданы по эстетическим причинам. Собранная продукция затем передается благотворительным группам, которые, в свою очередь, снабжают нуждающихся свежими фруктами и овощами. Любая продукция, не переданная в дар, впоследствии идёт на приготовление варенья и соусов, продаваемых в сети из 46 магазинов с этикеткой «Esimperfect» («Это несовершенно»). Собирая и перерабатывая эту продукцию, Espigoladors стремится способствовать социальной интеграции и стимулировать цикл экологически устойчивого, социализированного экономического обеспечения продовольствием нуждающихся слоев населения.
Таким образом, происходит усиление как горизонтального сотрудничества между различными ассоциациями, так и вертикального — с местными органами власти, предоставляющими широкий спектр услуг с использованием муниципальных зданий, таких как социальные клиники с врачами-добровольцами. В Италии, Испании и Греции коллективные инициативы продемонстрировали, как в локальном масштабе могут подбираться альтернативные решения для проблем нехватки продовольствия и растущего неравенства, все больше влияющего на экономические развитые общества.
В некоторых социальных контекстах, экономический кризис не только породил более глубокую связь между коллективными инициативами и местными органами власти, но также способствовал развитию новых форм участия, характеризующихся неформальными организационными структурами и сильным «антигосударственным/антиевропейским» позиционированием.
Эти инициативы, как правило, носят политизированный характер, что приводит к тому, что они рассматривают центральные правительства и ЕС как главных виновников кризисных условий, в результате предпочитая поддержку со стороны местного самоуправления.
Роль коллективных инициатив и органов местного самоуправления и, следовательно, «местного» аспекта развития в значительной мере проявилась благодаря влиянию социальных движений, которые пошли по пути, установленному «Indignados» в Испании. Согласно этим движениям, недовольство следовало трансформировать в конкретные действия на местном уровне. Это привело к появлению коллективных инициатив с сильными местными корнями и плотной сетью взаимоотношений и коммуникаций с другими инициативами в том же регионе. Это также показало важность установления сотруднических отношений, разработанных «в локальном масштабе» с местными органами власти.
Как показывают некоторые эмпирические исследования, экономический кризис 2008 года и влияние социальных движений, судя по всему, дали толчок альтернативным методам участия. Страны с наибольшим процентом новых инициатив — те, которые сильнее всего пострадали от кризиса. Например, более половины существующих в Греции (56,2 %) и Испании (50,4 %) инициатив были начаты после 2008 г.1
Из более чем 4000 инициатив, проанализированных европейским исследовательским проектом «LIVEWHAT» (2016), 52,7 % направлены на удовлетворение основных потребностей (раздача продуктов питания и одежды, жилищная поддержка бездомных, медицинские услуги, бесплатная юридическая помощь, инициативы по борьбе с мошенничеством и группы помощи для женщин, детей и беженцев), 46 % участвуют в культурной деятельности и информировании общественности и, наконец, 42,6 % занимаются альтернативной экономической деятельностью (альтернативные валюты, бартерные системы, системы распределения недорогих товаров и услуг).
В Италии деятельность, связанная с альтернативным потреблением, является наиболее распространенной — 56 %; в Греции 63 % инициатив затрагивают основные потребности; в то время как в Испании 63,2 % занимаются альтернативной экономической активностью. Также представляет интерес анализ ценностей, стоящих за этими инициативами. В данном случае кризис 2008 года стал важным переломным моментом. Инициативы, основанные до его начала, были продиктованы желанием защищать и отстаивать права человека с целью достижения социальной справедливости. Тогда как основными движущими факторами инициатив, возникших в 2008 и после, являются расширение прав и возможностей, культурно-расового разнообразия и стабильности. Также имеют место национальные различия: в Испании и Греции главенствуют ценности личного достоинства, тогда как в Италии важнее ценности расширения свобод в отношении совместной социальной ответственности «где люди растут, создают и делают что-то друг для друга» [17, с. 144].
Что касается целей этих инициатив, то в Греции преобладает необходимость преодоления последствий кризиса и мер жесткой экономии: «Солидарность нельзя мыслить вне фона, созданного жесткой экономией, поскольку она возникает как альтернативный горизонт для жизненных миров людей, диктуя немедленные действия» [18]. В Италии основной целью является создание альтернативных экономических практик, а в Испании — реализация социальных изменений посредством коллективных действий.
Заключение
Таким образом, полагаем, что рассмотренные особенности экономико-правового обеспечения продовольственной безопасности в Европе являются реакцией на последствия кризиса, но, как подтверждают некоторые исследования, они сосредоточены в крупных городских районах. Другими словами, в областях, где ресурсы, социальных капитал и глубоко укоренившиеся традиции участия выступают как «движущая сила», подпитывая и поддерживая присутствие пространств, где могут иметь место инициативные движения. Согласно некоторым исследователям [19], эта зависимость от социальных контекстов, богатых ресурсами и возможностями, может быть препятствием, поскольку способна снизить упор на основные свободы и инклюзивное развитие, созданные через локальную коллективную деятельность.
В Европейском Союзе отсутствует правовая база, гарантирующая продовольственную безопасность всем проживающим на территории ЕС, обеспечение право на питание и регламентирующая формы поддержки наиболее уязвимым социальным группам населения. Это приводит в условиях социальной изоляции к нарушению прав граждан ЕС на обеспечение продовольствием. Наиболее распространенными формами реализации права на обеспечение продовольствием и достаточное питание являются различные инициативы и программы, реализуемые муниципальными органами власти во взаимодействии с частными фондами, общественными и религиозными организациями и направленные на временное решение проблем нехватки продовольствия.
Список литературы Продовольственная безопасность в Европе: от права на обеспечение продовольствием до реализации права на достаточное питание (особенности экономико-правового обеспечения)
- Marquez-Vidal P., Waeber G., Vollenweider P., Bochud M., Stringini S. Socio-demographic and behavioral determinants of healthy nutrition in Switzerland. BMC Public Health. 2015;(15):73. Available from: https://doi. org/10.1186/s12889-015-1451-9 (accessed: 06.06.2021).
- DietzW. H. 1995. Does Hunger Cause Obesity? Pediatrics. 1995 May;95(5):766-7.
- Dowler E. A., Kneafsey M. R., Lambie H., InmanA., Collier R. Thinking about "food security": engaging with UK consumers. Critical Public Health. 2011;21(4):403-416. Available from: https://doi.org/10.1080/09581596 .2011.620945 (accessed: 06.06.2021).
- Lupstra R., Reeves A., Taylor-Robinson D., Barr B., McKee M., Stackler D. 2015. Austerity, sanctions and the growth of food banks in the UK. BMJ: British Medical Journal. 2015;350:h1775. Available from: https://doi. org/10.1136/bmj.h1775 (accessed: 06.06.2021).
- European Commission. Preparatory study on food waste in the EU countries 27. Brussels. October 2010. Available from: https://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf (accessed: 06.06.2021).
- Frigo A. Il Fead, translated: Dopo la crisi. Social security expenses. Rapporto 2015. Caritas Italiana, 2015.
- Davis O., GeigerB. B. Did Food Insecurity rise across Europe after the 2008 Crisis? An analysis across welfare regimes. Social Policy and Society. 2016;16:343-360. Available from: https://doi.org/10.1017/ S1474746416000166 (accessed: 06.06.2021).
- Sen A. K. Social exclusion: concept, application and analysis. Documents on social development No. 1. Department of Environment and Social Development of the Asian Development Bank. 2000 June. Available from: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29778/social-exclusion.pdf (accessed: 06.06.2021).
- Salais, R. Deliberative democracy and its informational basis: what lessons from the Capability Approach. SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) Conference. Jul 2009, Paris, France. Available from: https:// halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00429574 (accessed: 06.06.2021).
- Papadaki M., Kalogeraki S. Exploring Social and Solidarity Economy (SSE) during the Greek Economic Crisis. Partecipazione and Confitto: Special issue: Socio-political Responses during Recessionary Times in Greece. 2018;11(1):38-69. Available from: https://doi.org/10.1285/i20356609v11i1p38 (accessed: 06.06.2021).
- Simiti M. Rage and protest: the case of the Greek indignant movement. GreeSE papers (82). The London School of Economics and Political Science, London, UK. 2014. Available from: http://eprints.lse.ac.uk/id/ eprint/56229 (accessed: 06.06.2021).
- Hanfstaengl E.-M. The impact of global economic crises on civil society organizations. New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs; 2010. Available from: https://www.un.org/esa/desa/ papers/2010/wp97_2010.pdf (accessed: 06.06.2021).
- ShaheenJ., WoodwardA., Terzis G. 2013. The impact of the crisis on civil society organizations in the EU: risks and opportunities. Brussels: European Economic and Social Committee. 2013:3-7. Available from: http:// ec.europa.eu/citizenship /pdf/eesc_qe-32-12-548-en-c_en.pdf. (accessed: 06.06.2021).
- KhulyarasA. Greek Civil Society: Forgotten causes of weakness. Clark J., HouliarasA. and SotiropoulosD.A., eds. Austerity and the Third Sector in Greece: Civil Society on the European Front. Farnham, Surrey: Ashgate; 2015. p. 9-27.
- Kanzara V. Solidarity in times of crisis: emerging practices and the potential for paradigm shift. Notes from Greece. Studi diSociologia [Research in Sociology]. 2014;3:261-280.
- Lahusen S., Lukakis A. Spatial models of alternative Action organizations in Europe: Improving resilience during a crisis, where is it necessary? In: 10th ECPR General Conference of Charles University in Prague; 2016 Sep 7-10. p. 13-7.
- Rakopoulos T. Solidarity: the Egalitarian tension of the Bridge concept. Social Anthropology. 2016 May;24(2):142-151. Available from: https://doi.org/10.1111/1469-8676.1229 (accessed:14.04.2021).
- Cruz H., Martinez R., Ismael B. Cruz, Helena et al. Crisis, Urban Segregation and Social Innovation in Catalonia. Partecipazione e Conflitto. 2017;10:221-245.
- Cristancho C. E., Loukakis A. A Comparative Regional Perspective on Alternative Action Organization Responses to the Economic Crisis Across Europe. American Behavioral Scientist. 2018;62(6):758-777.