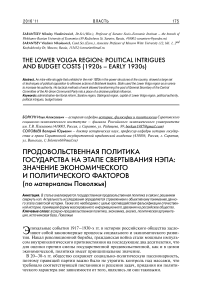Продовольственная политика государства на этапе свертывания НЭПа: значение экономического и политического факторов (по материалам Поволжья)
Автор: Боркун Илья Алексеевич, Соловьев Валерий Юрьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 11, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется государственная продовольственная политика в связи с решением свернуть нэп. Актуальность исследования определяется стремлением к объективному пониманию данного этапа советской истории. Также это необходимо с целью противодействия фальсификации отечественной истории, принявшей форму массированного информационного давления на российское общество.
Аграрно-продовольственная политика, экономика, анализ, политическая аргументация, источниковая база, поволжье
Короткий адрес: https://sciup.org/170168210
IDR: 170168210
Текст научной статьи Продовольственная политика государства на этапе свертывания НЭПа: значение экономического и политического факторов (по материалам Поволжья)
Э похальные события 1917–1930-х гг. в истории российского общества заслоняют собой закономерные процессы социального и экономического развития. Накал революционной борьбы, гражданская война стали мощным импульсом внутриполитического противостояния на последующие два десятилетия, что для оценки причин смены государственной продовольственной, как и в целом экономической, политики имеет принципиальное значение.
В 20–30-х гг. общество сохраняет социально-политическую пассионарность, поэтому правящей партии важно было не утратить контроль над массами, что требовало соответствующей постановки и решения задач, придания им политического характера вне зависимости от того, являлись ли они таковыми.
С другой стороны, политическая сфера для партийного и советского руководства, взращенного в политических теоретических дискуссиях и политической борьбе, являлась хорошо понятной. Поэтому подход к анализу проблем и алгоритм принятия решений был политически конвенциональным. Соответственно, и в аграрно-продовольственной сфере предпринимаемые властью шаги обосновывались программными установками классовой борьбы и утверждения социалистического строя.
Решение о свертывании нэпа, как известно, не было однозначным. В правящих кругах партии и правительства возникла дискуссия о перспективах новой экономической политики. В этой связи, конечно же, вспоминается широко известная позиция Н.И. Бухарина, считавшего возможным сохранить нэп в неизменном виде и при этом добиться высоких темпов индустриализации. В либеральнодемократическом стане часто цитируется его бравурное выступление на собрании актива Московской организации РКП(б) 17 апреля 1925 г., в котором он обещал защиту интересов зажиточного крестьянина. Для увеличения покупательной способности селян он предлагал снять административные барьеры, препятствующие росту хозяйства, и предоставить более широкие возможности для использования наемного труда [Бухарин 1988: 52-53, 211-214].
Традиционно в сложных ситуациях общество ищет виновного во всех своих проблемах и желает быстрых и простых решений. Согласно этому сценарию сформировалось общественное мнение и политическая идеология на рубеже 1980–1990-х гг. Тогда «командно-административная система» стала жупелом; ее обвиняли во всех грехах, в т.ч. и в кризисе, в котором оказалась вся советская система, включая экономику, а идея рынка казалась панацеей от всех проблем [Сенявский 2006: 6].
В науке критика советского этапа историографии, когда единственно верной признавалась одна концепция, обернулась чуть ли не изгнанием из теории и методологии формационного подхода, классового принципа. Отрицание общепринятых выводов становится самоцелью в разработке нэповской проблематики. Тотальное оправдание действий власти сменяется огульной критикой. В объяснении причин свертывания нэпа главной задачей представляется обоснование хозяйственного волюнтаризма Советского государства в угоду политическим целям удержания власти и реализации партийной программы построения социалистического государства. Под влиянием подобных настроений результаты исследования программируются изначально.
Акцент на политическом аспекте проблемы имеет и научное обоснование. В начале 1990-х гг. открывается доступ к ранее засекреченным архивным документам. Некая эйфория от снятия цензурных ограничений выражается в стремлении опубликовать как можно больше источников. Массированная подача документов без должного научного анализа в работах представлялась достаточной для заявления о включении их в научный оборот и, что самое важное, для обобщений и выводов по теме исследования (логика «что написано пером, то не вырубишь топором» считалась исчерпывающей). По этой причине риторика классовой борьбы, отраженная в письменных источниках, политическая аргументация в документах разного уровня воспринимаются абсолютно и представляются убедительным доказательством первопричины политических целей отказа от рыночных институтов.
Приверженцы концепции политического решения свертывания нэпа высказывают аналогичные критические замечания в адрес своих противников, считая, что именно они конъюнктурно подходят к работе с источниками, игнорируя факты и документы, противоречащие официальным партийным установкам, которые гласили, что нэп исчерпал себя к концу 1920-х гг. Примечательна в этой связи оценка одного из ведущих специалистов по проблематике Е.Г. Гимпельсона: «Историография, как советская, так и постсоветская, сводя причины свертывания нэпа к чисто экономическим факторам, лишала себя возможности в полной мере раскрыть его противоречия (в частности, между требованиями нормального функционирования экономики и политическими приоритетами), была как бы ангажирована на ответ: “нэп себя экономически исчерпал”» [Гимпельсон 2006: 88]. Действительно, политико-идеологические установки, довлевшие над наукой в советский период, а также инертность, консерватизм в постсоветский период отрицательно сказались на качестве исследования темы. Но следует обратить внимание, что эти недостатки породили проблему отрицания достижений предыдущего этапа развития науки. Опровержение прежней концепции свертывания нэпа стало заданной целью, а не результатом применения нового теоретико-методологического инструментария и современной источниковой базы. Поэтому то, за что Е.Г. Гимпельсон обоснованно критикует сторонников «экономической» версии, в той же мере, а то и в большей проявилось в работах приверженцев «политической» версии.
Общественно-научная дискуссия по поводу возрождения нэпа носила в общем паритетный характер до того времени, когда явно обнаружились ограниченные возможности рынка, а в социально-экономической жизни села, аграрнопродовольственной политике – проблемы, аналогичные тем, что имели место в конце 1920-х гг. Тогда политическое конъюнктурное давление ослабло, т.к. идея нэпа перестала приносить дивиденды политиканам и популистам. А нерешенные вопросы и, как следствие, нарастающие кризисные явления в аграрном секторе, продовольственной политике настоятельно указали на необходимость всестороннего подхода к историческому опыту, чтобы грамотно, творчески им распорядиться в решении текущих задач.
В настоящее время накопленный массив научной информации и эмпирический опыт представляют аргументированными выводы о временном, восстанавливающем характере новой экономической политики, не имеющей дальнейшего потенциала. Историографический анализ проблематики показывает, что объективным побуждающим мотивом изменения экономической политики были хозяйственные причины.
Приступая к выяснению причинно-следственной обусловленности перехода в 1928–1929 гг. от рыночных регуляторов к прямому государственному плановоцентрализованному управлению сельским хозяйством и распределению сельхозпродукции, нельзя игнорировать влияние политического фактора. Но важно понимать и степень его воздействия. Бесспорным было несоответствие политической и складывающейся нэповской социально-экономической системы. В конце 1920-х гг. взаимодействие двух систем вошло в фазу, когда одна из них должна быть абсорбирована другой. Вопрос должен был разрешиться либо в пользу буржуазной реставрации, либо в сторону приведения экономического базиса и социальной организации в соответствие с политико-идеологической надстройкой. Но необходимо также учитывать умение большевиков придавать прагматичным хозяйственным решениям политико-идеологическое оформление и обоснование мобилизационной модели с применением чрезвычайных мер. Первый успешный опыт был получен с введением майских декретов 1918 г. о продовольственной диктатуре, затем в 1919 – начале 1921 гг. была реализована политика «военного коммунизма», основой которой являлась продразверстка. В обоих случаях советское государство демонстрировало беспощадную борьбу с классовыми врагами, проявив прагматизм и преемственность продовольственной политики. Кстати, впервые практику изъятия хлеба предложил министр земледелия Российской империи А. Риттих. 29 ноября 1916 г. он подписал постановле- ние «О разверстке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связанных с обороной». Затем постановлением от 25 марта 1917 г. Временное правительство ввело государственную хлебную монополию. Декрет «О передаче хлеба в распоряжение государства» предусматривал его учет, отчуждение и распределение.
Индустриализация советской экономики была продиктована требованиями мирового развития и конкуренции. Необходимо было завершить 2-й цикл «пара и стали», который в западных странах закончился в конце XIX в., и быстрыми темпами преодолевать отставание на 3-й экономической волне электротехнической, химической и автомобильной промышленности. Необходимо отметить, что и это решение советского государства не являлось новаторским. Курс на индустриализацию, принятый XIV съездом ВКП(б), был не чем иным, как продолжением модернизации, начатой в 1890-е гг. и прерванной Первой мировой войной и революцией 1917 г.
Таким образом, политический радикализм большевиков не препятствовал прагматизму в управлении хозяйством. Следовательно, есть основания считать, что основная причина свертывания нэпа заключалась в неспособности рыночно-государственного механизма справиться с задачами регулирования продовольственного рынка, увеличения производства и товарности сельского хозяйства, интенсификации товарооборота между городом и селом, управления ресурсными потоками или, иными словами, обеспечения поставок хлеба в государственные закрома.
Конечно же, два хлебозаготовительных кризиса во второй половине 1920-х гг., безусловно, придавали политический характер недовольству крестьянства, по сути, срывавшего государственную стратегию хозяйственного развития. Но первопричина цивилизационного противостояния традиционной деревни чуждым, агрессивно утверждавшимся в России ценностям рыночной экономики растворяет в себе социально-политический конфликт крестьянства с советским государством. Ключевым становится вопрос о ментальной готовности населения к определенным формам и способам экономической активности. Исторический анализ должен способствовать пониманию общей картины, что должно послужить основой для творческого подхода к накопленному арсеналу методов и практических решений [Васильев 2008].
Как известно, на Западе традиционный уклад вытеснил сельскохозяйственный товаропроизводитель. Поэтому там специализация производителей и хозяйств-предприятий достигалась чрезвычайным напряжением всего общества. В России до 1917 г. правительство, стремясь преобразовать Россию по европейским стандартам, отошло от государственного патернализма и приступило к насильственному разрушению традиционного уклада жизнедеятельности и навязывания русскому народу чуждых ценностей. Этот процесс капитализации России, как уже отмечалось, имел отличия от западного стандарта. Например, при всем напряжении процесса специализации между отдельными отраслями хозяйства и, соответственно, между единичными предприятиями сохранялась тесная органическая связь, в силу которой народное хозяйство выступало как своеобразное целое, опираясь на систему государственного регулирования и планирования. Однако капиталистические противоречия разрешались в рамках рыночной парадигмы [Васильев, Соловьев 2011]. Как известно, реформирование в России всегда осложнялось действием особо жестких технологий социальных перемен, которые деформировали уникальную органику национальной культуры. Царское правительство, хотя знало об этой российской особенности, не пришло на помощь своему народу и не минимизировало жесткие технологии социальных перемен [Соловьев 2008].
В советской России 1920-х гг. функциональные возможности рынка были очень ограниченными. В аграрно-индустриальном обществе крестьянство хранило свою уникальную культуру, а значит высокую степень хозяйственной и потребительской самодостаточности, довольствуясь минимумом промышленных товаров и домашним производством. Поэтому большие сложности на агропродовольственном рынке в указанные годы вызывали большие сезонные колебания поставок продукции из села. Например, традиционным было падение поставок в весенние месяцы (в 5 и более раз). В совокупности с тем, что крестьяне не торопились предлагать хлеб осенью, в сезон продаж, эти обстоятельства держали потребительский рынок и государство в постоянном напряжении из-за угрозы срыва поставок. Наиболее остро по этим причинам была дестабилизирована ситуация в 1927/28 хозяйственном году, когда сначала крестьяне отказались продавать хлеб государству по фиксированным заниженным ценам, а весной хлебозаготовкам препятствовали погодные условия и плохие виды на предстоящий урожай озимых. В Поволжье в апреле 1928 г. закупки основных хлебозаготовителей снизились на 87,7% относительно других месяцев, а выполнение плана наркоматом торговли составило всего 16,9%. Крестьянство не проявляло заинтересованности в утверждении той или иной социальной системы, что придает любым общественно значимым действиям политический характер. Поэтому партийное и советское руководство государства и их политические оппоненты воспринимали деревню как мелкобуржуазную стихию. Крестьянство же стремилось в равной мере оградить себя и от сурового государственного контроля, и от не менее жестких требований законов рынка. Поэтому реакция на государственную продовольственную политику носила ситуативный характер и была ограничена налоговой конъюнктурой и текущим состоянием рынка. Возможность крестьянства избирательно присутствовать на рынке при условной интеграции в него ограничивала регулирующие и контролирующие возможности государства. «Достаточно было слухов и несвоевременного понижения цен на хлеб, чтобы сорвать экспортноимпортные планы государства, план развития промышленности и разрушить поставки продовольствия на внутренний рынок» [Васильев 2009: 178]. Такое положение не отвечало жизненно важным для общества задачам обеспечения продовольствием потребляющих регионов и городов, армии, государственных закромов. Так как созидательная инициатива власти строилась на основе сложной комбинации политических, социальных и экономических факторов, замена рыночного регулирования на планово-централизованное было обосновано прежде всего продуманными хозяйственными причинами [Есиков, Есикова 2013]. Поэтому в ходе анализа реформаторских и модернистских изменений в социально-экономической структуре России авторы обратились к важнейшим положениям народного труда и особых форм деятельности, отражавшим противоречие между трудом и капиталом через призму самоидентичности, нравственных устоев и интересов большинства населения страны. Важным аспектом научного поиска в рамках общих социально-политических и экономических доктрин выступил особый уклад народной жизнедеятельности, способный открыть некапиталистический путь развития нашей страны исключительно на базе самобытной общинно-артельной и коллективистской организации. Реализовать задуманное в условиях новой государственности можно было без разрушения традиционного механизма жизнедеятельности и массового разорения мелких крестьянских хозяйств – посредством трансформации общинного типа производства в общественно-кооперативный. При этом народный труд, взаимосвязи и распределение ресурсов выступали как возможный способ координации, конкурирующий с чисто рыночным подходом и дополняющий его. Как учит исторический опыт и показывает хозяйственная практика, формирование и подлинная модернизация происходит не столько под влиянием конкуренции и правовой системы, сколько благодаря сохраняющимся традиционалистским персонифицированным отношениям, существовавшим еще в доиндустриальную эпоху [Васильев, Соловьев 2012]. К тому же, это одна из важнейших предпосылок «очеловечивания» безличностных хозяйственных связей [Воротников 2013].
Утверждение власти РСДРП(б) и становление советской системы государственного управления служит подтверждением того, что большевикам удалось взять под свой контроль не только политическую энергию масс, но и весь процесс общественной жизнедеятельности.
Статья подготовлена в рамках конкурса (грант) РГНФ. Проект № 15-31-14003/15 «Региональные аспекты формирования российской нации».
Список литературы Продовольственная политика государства на этапе свертывания НЭПа: значение экономического и политического факторов (по материалам Поволжья)
- Бухарин Н.И. Путь к социализму. -Избранные произведения. М. 1988. С. 52-53, 211-214
- Васильев А.А. 2008. Природа противоречий в аграрно-продовольственной политике государства в период нэпа. -Власть. № 11. 120-123
- Васильев А.А. 2009. Решение продовольственного вопроса на этапах подъема и свертывания нэпа. Саратов: Изд-во СГСЭУ. 228 с
- Васильев А.А., Соловьев В.Ю. 2011. О некоторых моментах современного исторического воспитания и формирования русской самоидентичности. -Власть. № 1. С. 81-85
- Васильев А.А., Соловьев В.Ю. 2012. Особенности национального самосознания и русская национальная идея. -Известия ПГПУ. Сер. Гуманитарные науки. № 27. С. 994-998
- Воротников А.А. 2013. Бич России: новейшая история страны глазами журналиста и ученого. Саратов: Научная книга. 284 с
- Гимпельсон Е.Г. 2006. Почему свернули нэп? -НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты: сборник статей. М.: РОССПЭН
- Есиков С.А., Есикова М.М. 2013. Крестьянская община (земельное общество) в общественно-политической жизни в 1920-е годы (на материалах Тамбовской губернии). Тамбов: Изд-во ТГТУ. 78 с
- Сенявский А.С. 2006. Новая экономическая политика: современные подходы и перспективы изучения. -НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты: сборник статей. М.: РОССПЭН
- Соловьев В.Ю. 2008. Русская крестьянская община Поволжья в 1861-1900 годы. Саратов: Изд-во СГСЭУ. 296 с