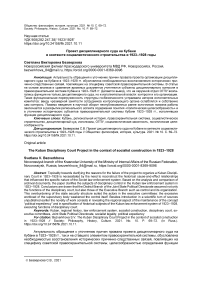Проект дисциплинарного суда на Кубани в контексте социалистического строительства в 1923-1928 годы
Автор: Безверхова Светлана Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 10, 2021 года.
Бесплатный доступ
Актуальность обращения к уточнению причин провала проекта организации дисциплинарного суда на Кубани в 1923-1928 гг. обусловлена необходимостью восстановления исторических причинно-следственных связей, повлиявших на специфику советской правоохранительной системы. В статье на основе анализа и сравнения архивных документов уточняются субъекты дисциплинарного контроля в правоохранительной системе Кубани в 1923-1928 гг. Делается вывод, что на окружной отдел ОГПУ возлагались функции не только дисциплинарного суда, но и исполнительной власти: контроля и его организации. Такая функциональная перегруженность структуры госбезопасности устраивала акторов исполнительных комитетов: ввиду чрезмерной занятости сотрудников контролирующего органа ослаблялся и собственно сам контроль. Помимо введения в научный оборот неопубликованных ранее источников новизна работы заключается в раскрытии регионального аспекта содержания понятия «политическая целесообразность» и в уточнении исторических субъектов правоохранительной системы Кубани 1923-1928 гг., исполнявших функции дисциплинарного суда.
Кубань, региональная история, правоохранительная система, социалистическое строительство, дисциплинарный суд, исполкомы, огпу, социалистическая законность, политическая целесообразность
Короткий адрес: https://sciup.org/149138527
IDR: 149138527 | УДК: 908(282.247.38)“1923/1928” | DOI: 10.24158/fik.2021.10.11
Текст научной статьи Проект дисциплинарного суда на Кубани в контексте социалистического строительства в 1923-1928 годы
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД РФ, Новороссийск, Россия, ,
Novorossiysk branch of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Novorossiysk, Russia, ,
исторического феномена в некоторой сфере социальных отношений. Ведь если существовал механизм реализации определенных функций, а также субъекты деятельности по реализации этих функций, то становятся очевидными причины конкретной исторической событийности.
Объект исследования, таким образом, – процесс становления на Кубани советской правоохранительной системы.
В качестве предмета изучения выступает функция контроля дисциплинарного суда как не-состоявшегося структурно-функционального проекта правоохранительной системы.
Проблему исследования составляет уточнение функций дисциплинарного суда, которые так и остались невостребованными в правоохранительной системе Кубани 1923–1928 гг., и конкретных исторических субъектов, реализовывавших эти функции в указанный исторический период.
Хронологические рамки исследования определяются временем официального существования в РСФСР института дисциплинарного суда (1923–1928 гг.).
Цель работы состоит в уточнении исторических субъектов, замещавших своей деятельностью функции дисциплинарного суда на Кубани путем анализа и сравнения документов Управления архива г. Новороссийска («Дело дисциплинарного суда : переписка с окружным дисциплинарным судом … : 1926–1927 гг.» [1] и «Исполнительный комитет Черноморского окружного совета … : переписка с окружным отделом ОГПУ. 15 января – 15 декабря 1927 г.» [2]).
Соответственно цели исследования в его задачи входят анализ и сравнение архивных документов.
Помимо введения в научный оборот неопубликованных ранее источников, новизна работы заключается: 1) в раскрытии регионального аспекта содержания понятия «политическая целесообразность», положенного теоретиками советского права в 1920-х гг. в основу отличия революционной и социалистической законности от буржуазной; 2) в уточнении исторических субъектов правоохранительной системы Кубани 1923–1928 гг., исполнявших функции дисциплинарного суда.
Как известно, теоретиком проекта дисциплинарного суда в РСФСР выступил видный советский государственный деятель Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954), возглавлявший в 1923–1928 гг. Московский государственный университет, профессор, доктор юридических наук (1936) и академик АН СССР (1939), никогда не бывший её членом-корреспондентом. Именно он выступил в «Еженедельнике советской юстиции» с разъяснениями для специалистов ВЦИК, учредившего дисциплинарный суд постановлением от 7 июля 1923 г. [3, с. 675].
Функция дисциплинарного суда состояла в ликвидации пробела по регулированию и контролю деятельности руководящих работников («должностных лиц»), которая не попадала под действие Трудового и Уголовного кодексов. Организационной особенностью проекта организации дисциплинарного суда на местах было то, что не только учредительные, но и надзорные над его деятельностью функции принадлежали исполкомам соответственного уровня. Получается, что всё время своего существования (1923–1928) дисциплинарный суд оставался в административном подчинении: органов, законность, рациональность и политическую целесообразность решений которых и был призван контролировать. Неудивительно, что, как отмечает на основе анализа архивных документов Т.Н. Ильина, дисциплинарные суды во всех регионах РСФСР «были слабо востребованы» [4, с. 137]. Налицо пересечение функций контроля: если дисциплину корпоративных руководителей представители местной власти в отдельных случаях могли проверять, то контроль руководителей властных структур зависимым от них органом выглядит сомнительно, хотя идея дисциплинарного суда и опиралась на широко распространенную в 1918–1922 гг. практику корпоративных товарищеских судов.
Льюис Сиглебаум акцентирует внимание на серьезных проблемах с дисциплиной на предприятиях в первые годы советской власти [5, p. 727–728]. Изучению подлежит общественный и демократический характер коллективного решения дисциплинарных проблем в товарищеских судах. Однако так же, как и в случае с товарищеским судом, встает вопрос о подконтрольности руководства коллектива правилам общей дисциплины. Вообще проблему дисциплинарного суда составлял контроль деятельности руководителей исполкомов, в ведении которых и находилось учреждение самих этих судов.
Коснемся анализа эмпирики региональных архивных документов, которые в полной мере коррелируют с материалами общегосударственного характера (см. [6] и др.), подробно уже рассмотренными историками [7].
Согласно постановлению президиума Северо-Кавказского крайисполкома от 31 декабря 1926 г. (протокол № 33/57 п. 444) окружной исполком извещает все райкомы и отделы об организации дисциплинарного суда, которому будут подсудны дела о служебных упущениях и проступках должностных лиц, представителей и членов правлений советских органов и учреждений, предприятий и трестов, находящихся в ведении местных исполкомов и окрисполкома [8]. Указанный документ примечателен тем, что в нем обозначены структуры, уполномоченные направлять дела для рассмотрения дисциплинарным судом: президиумы окрисполкома и райисполкомов, судебно-следственные органы, органы прокурорского надзора и рабоче-крестьянских инспекций
(РКИ). Исполкомы по полномочиям, что примечательно, при этом были поставлены в один ряд с правоохранительными структурами в отношении дисциплинарного ограничения должностных лиц и руководящих работников.
Отметим, что решение об утверждении состава дисциплинарного суда (председатель – тов. Байков, члены: тов. Иванов, Недрин, секретарь – Архангельский) при окрисполкоме принимается 6 апреля 1926 г. президиумом Черисполкома (ЧОИК) согласно выписке из протокола № 57 управделами ЧОИК т. Колотий [9], а в своем первом распоряжении по округу тов. Байков опирается на более позднее решение Северо-Кавказского крайисполкома [10].
Напрашивается резонный вопрос: чем полезным с 6 апреля по 31 декабря 1926 г. (практически год) занимался сформированный окружной дисциплинарный суд? В это время ЧОИК в лице председателя тов. Иванова и ответственного секретаря тов. Байкова вел активную переписку с прокуратурой Северо-Кавказского края (ответ от 26 июня 1926 г. [11]), с Главным дисциплинарным судом при ВЦИК (5 июля 1926 г. [12]), с секретариатом Северо-Кавказского крайисполкома (ответ от 30 августа 1926 г. [13]) о разграничении полномочий президиума окружного исполкома и окружного дисциплинарного суда, обещая, что задержек в работе последнего под наблюдением президиума ЧОИК не будет [14].
Весь 1926 г. ушел на выяснение Ивановым и Байковым (по совместительству руководителей ЧОИК и дисциплинарного суда), как им контролировать собственную работу, после чего они принялись организовывать низовые дисциплинарные суды при райкомах.
Между тем 15 января 1927 г. потребовалось секретное обращение Черноморского окружного отдела ОГПУ к президиуму окружного исполкома по поводу медленной работы ревизионной комиссии, организованной в ноябре 1926 г. администрацией цемзавода «Пролетарий», РКИ и окружным здравотделом [15] «для производства глубокой ревизии в больнице цемзаводов» [16].
Со ссылкой на имеющиеся сведения сотрудники ОГПУ указали на бездействие комиссии по вине конкретных лиц (тов. Рабинович со стороны здравотдела «отозвал представителей в комиссию от здравотдела – тов. Каратыгина, Сарина и Румянцеву» [17]), в то время как администрация больницы подозревалась в растрате, а возможно, и в подлоге документов (что предполагает злой умысел или даже политическую окраску халатности). В итоге 24 января на заседании означенной комиссии виновным в её бездеятельности был признан представитель РКИ, председатель комиссии тов. Подобедов, принято решение об организации подкомиссии, которой поручено за 4 дня «рассмотреть все сомнительные случаи в части расхода» и доложить о результатах комиссии для составления акта ревизии [18].
Приведенный пример указывает, насколько быстро и оперативно на Кубани решались вопросы о деятельности руководящих работников, взятые на контроль ОГПУ в 1927 г., притом что организация дисциплинарных судов, в ведении которых должны были оказаться подобные дела, в регионе пробуксовывала. Постановлением ВЦИК и СНК от 28 мая 1928 г. они и вовсе были в централизованном порядке повсеместно ликвидированы [19], так и не став элементом правоохранительной системы Кубани.
Ситуация с «оперативностью» тов. Иванова и Байкова по организации деятельности дисциплинарного суда напоминает работу начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабыча по исполнению телеграфного распоряжения А.Ф. Керенского о немедленном освобождении политических заключенных [20]. В обоих случаях представители местной власти, сосредоточив в своих руках реальные механизмы управления, распоряжения центра исполняли лишь в той мере, в какой сами были в них заинтересованы, в противном же случае они фактически их игнорировали, создавая лишь видимость добросовестного исполнения возложенных на них функций. Как видно, принцип политической целесообразности, признанный теоретиками советского права в 1920-х гг. ключевым для определения отличий социалистической законности от буржуазной [21], в истории Кубани необязательно был связан с наименованием политического строя и процессами социалистического строительства. Непосредственно в регионе политическая целесообразность для управленцев может значительно отличаться от признанной таковой со стороны центральной власти вне политического окраса государственного устройства, на деле означая волюнтаризм в принятии решений. В обоих случаях действия местной власти обусловлены стремлением сохранить сложившуюся расстановку сил, возможность самостоятельного принятия управленческих решений конкретными лицами.
Сравнение введенных в научный оборот источников позволяет заключить, что ЧОИК не справлялся с возложенными на него функциями организации работы и контроля дисциплинарного суда, не будучи заинтересованным в контроле собственной деятельности. В результате и действия руководящих работников больницы цемзавода стали ему не подконтрольны. Потребовалось вмешательство ОГПУ, располагавшего собственной широко разветвленной агентурной сетью, для указания ревизионной комиссии на то, что она не работает должным образом. Из чего можно сделать вывод, что на ОГПУ возлагались функции не только дисциплинарного суда, но и исполнительной власти: контроля и его организации. Причем такая функциональная перегруженность структуры госбезопасности, очевидно, устраивала работников исполнительных комитетов ввиду того, что в этом случае ослаблялся и собственно контроль за их деятельностью.
В 1923–1928 гг. советская правоохранительная система ещё продолжает складываться. И вполне очевидно, что на Кубани в ней не нашлось места такой структуре, как дисциплинарный суд: региональные управленцы, в ведении которых оказались вопросы организации местных его подразделений, не были заинтересованы в учреждении органа, призванного контролировать их деятельность. Причина провала проекта организации дисциплинарного суда непосредственно в регионе в рассмотренный период видится нам в пересечении учредительных, исполнительных и контролирующих функций руководителей окрисполкома (тов. Иванова и Байкова).