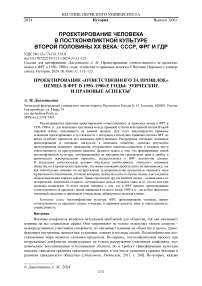Проектирование «ответственного за прошлое» немца в ФРГ в 1950-1980-е годы: этические и правовые аспекты
Автор: Давлетшина А.М.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Проектирование человека в постконфликтной культуре второй половины XX века: СССР, ФРГ и ГДР
Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются практики проектирования «ответственного за прошлое» немца в ФРГ в 1950-1980-е гг. для выявления диссонанса между правовой и этической оценкой итогов Второй мировой войны, повлиявшего на данный процесс. Для этого анализируются правовые основания проектирования и те сложности, с которыми столкнулась правовая система ФРГ во время судебных процессов над военными преступниками. Рассмотрены этические основания проектирования и основные дискуссии в немецком обществе, оценены результаты проектирования немецкого гражданина, осуждающего национал-социализм и готового нести ответственность за преступления нацизма. Делается вывод о том, что формирование новой постконфликтной культуры, основывающейся на верховенстве гражданских прав и свобод и критическом переосмыслении прошлого, осуществлялось в ФРГ достаточно сложно. В дискуссиях интеллектуалы активно обсуждали необходимость этического основания общества, но в юридических практиках эти новые основания проекта долго не принимались, так как значительное влияние на осуществление судопроизводства продолжали оказывать идеи юридического позитивизма, согласно которому нужно исходить из буквы закона, а не следовать общечеловеческим нормам морали. Право предлагало другое видение немца - независимого от исторических изменений, которого, следовательно, нельзя осуждать лишь за то, что он жил при национал-социализме. В итоге можно говорить о том, что в ФРГ процесс проектирования «ответственного за прошлое» немца завершился только к концу 1980-х гг., когда был преодолен указанный диссонанс и произошло утверждение либерального подхода в праве.
Постконфликтная культура, фрг, проектирование человека, проект «ответственного за прошлое» немца, этические и правовые аспекты, вина и ответственность, справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/147246540
IDR: 147246540 | УДК: 340.12+17+141.319.8 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-111-123
Текст научной статьи Проектирование «ответственного за прошлое» немца в ФРГ в 1950-1980-е годы: этические и правовые аспекты
Военные конфликты являются актуальной проблемой для общества, так как оказывают влияние на все социальные сферы. Они затрагивают не только отдельных членов социума – непосредственных участников конфликта, но оказывают влияние на общество в целом, трансформируя внутренние ценностные установки, мнения и взгляды людей. Постконфликтное восстановление мира является сложным процессом. Во-первых, постконфликтный процесс при вооруженных конфликтах подразумевает не только разоружение участников конфликта, экономическое восстановление и возмещения убытков, но и требует трансформации культуры насилия, «введения традиции грамотного правления, в том числе уважения к правам человека и развития гражданского общества» [ Абакумова , Рядинская , 2017, с. 260]. Во-вторых, каждая
постконфликтная ситуация уникальна: в зависимости от того, на какой стороне конфликта было государство, насколько сильные потери оно понесло, такие постконфликтные практики оно и вырабатывает.
Вторая мировая война (1939–1945) оказала разрушающий характер не только на современников, но и на будущее поколение. Она привела к деятельности по разработке и внедрению практик по переходу от войны к миру с целью не допустить повторения подобных катастроф в будущем. В постконфликтной культуре Германии 1950–1980-х гг. можно увидеть проекты, в которые закладывалось осуждение нацистских преступников и национал-социализма как явления. А. И. Борозняк выделяет следующие аспекты этого процесса: «политический – утверждение в обществе устойчивых антитоталитарных, демократических институтов; юридический – расследование нацистских злодеяний и наказание преступников; этический – укоренение начал национальной вины и национальной ответственности; педагогический – демократическое, антифашистское воспитание в школах и в системе политического образования; творческий – сохранение жестокой памяти о гитлеризме средствами художественной литературы и публицистики, кино и телевидения» [ Борозняк , 2023, с. 13].
Для стран антигитлеровской коалиции несомненным было то, что нацизм должен быть не только осужден юридически, но и получить соответствующую моральную оценку. Значимым шагом в этом направлении стало создание Международного военного трибунала, учрежденного соглашением от 8 августа 1945 г. между СССР, США, Великобританией и Францией. Его деятельность была направлена на осуждение преступлений против мира, преступлений против человечества и военных преступлений. Во второй половине 1940-х гг. прошли Нюрнбергский процесс (1945‒1946) и последующие за ним так называемые малые Нюрнбергские процессы (1946‒1949). Одной из их идей было показать миру и, в частности, Германии, что нацистский режим носит преступный характер, подлежит моральному осуждению, а также может быть осужден юридически, поэтому важно было создать юридические практики и прецеденты для последующих судебных процессов. Здесь следует отметить два момента.
Первый связан со смыслом концепта «преступление против человечества». Впервые данный термин был использован в Декларации держав Антанты от 24 мая 1915 г., где геноцид армян был классифицирован как «преступление против человечества и цивилизации» и давал возможность привлечь к ответственности причастных к такого рода массовым уничтожениям людей. В 1945 г. термин с описанием состава преступления был представлен в Уставе Международного военного трибунала, где были описаны преступления, подлежащие юрисдикции трибунала и влекущие за собой «индивидуальную ответственность» [Устав Международного военного трибунала…]. Под «преступления против человечества» подпадали «убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам… независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет» [Там же].
Второй момент связан со стремлением союзников ускорить процесс денацификации и упростить другим странам судопроизводство по нацистским преступлениям. В частности, можно будет не принимать в расчет заявления подсудимых о том, что они были лишь «винтиками» в государственном аппарате и выполняли свои обязанности перед страной.
В постконфликтный период Федеративная Республика Германия (ФРГ), как и Германская Демократическая Республика (ГДР), оказалась в зоне особого внимания стран-победителей – США, Великобритании, Франции и СССР. ФРГ рассматривалась как правопреемник Третьего рейха, что нашло отражение, например, в статье 116 Основного закона ФРГ (1949) касательно немецкого гражданства, а также в отказе признавать ГДР как самостоятельное государство. Вместе с этим данный статус предполагал, что государство берет на себя вину за произошедшее и ответственность за возмещение ущерба. На ГДР подобной ответственности не было.
В ситуации сохранения мира важно было воспитать поколение «ответственных за прошлое» немцев, которое будет осуждать нацизм и все, что с ним связано. Быстрой реализации этого проекта мешал разрыв между правовой нормой в отношении наказания нацистских преступ- ников и этической нормой, которая формировалась в рамках концепта вины и ответственности немцев за преступления нацизма. В то время как в дискуссиях интеллектуалов активно обсуждалась необходимость осмысления прошлого, с тем чтобы нести ответственность немецким обществом, юридические практики не соответствовали проекту «ответственного за прошлое» немца.
В исследовательской практике правовые и этические аспекты постконфликтного периода в ФРГ, как правило, рассматриваются отдельно и преимущественно в духе концепта «преодоления прошлого». В рамках данной работы интерес представляет именно процесс взаимовлияния права и этики, что дает возможность выявить основания проектирования человека в постконфликтной культуре ФРГ. Поэтому важными представляются обращение к рефлексии о сущности права представителей права (Г. Кельзена, Г. Радбруха, Г. Райнера, Б. Шлинка, Ф. Бауэра и др.), которые повлияли на судебную систему ФРГ, а также осмысление вопросов вины и ответственности в работах историков и философов указанного периода (К. Ясперса, Х. Арендт, М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Р. Дарендорфа и др.). Среди современных исследований можно отметить работы А. П. Грахоцкого, посвященные рассмотрению судебных процессов над нацистскими преступниками в ФРГ, и работы А. И. Борозняка, где дается комплексная оценка практикам «преодоления прошлого» в послевоенной ФРГ.
В данной статье предлагается рассмотреть процесс проектирования «ответственного за прошлое» немца в ФРГ в 1950–1980-е гг. для выявления разрыва между правом и этикой, повлиявшего на данный процесс. Для этого будут выявлены правовые основания проектирования «ответственного за прошлое» немца и те сложности, с которыми столкнулась судебная система ФРГ во время процессов над военными преступниками. Далее будут рассмотрены этические основания проектирования и основные дискуссии в немецком обществе, оценены результаты проектирования немецкого гражданина, осуждающего национал-социализм и готового нести ответственность за преступления нацизма.
Правовые основания проектирования «ответственного за прошлое» немца: справедливость и верховенство права
Завершение войны для Германии стало началом сложного и длительного процесса восстановления. После малых Нюрнбергских судебных процессов (1946–1949) предполагалось, что ФРГ и ГДР будут самостоятельно организовывать судебные процессы над нацистскими преступниками и это будет одним из важных этапов постконфликтного переустройства. В ГДР военные нацистские преступники были достаточно быстро арестованы и осуждены. В 1948 г. меры по денацификации были объявлены завершенными [ Борозняк , 2023, с. 40]. В ФРГ этот процесс осуществлялся медленно, так как существовали противоречия между немецкой правовой системой и нормами международного права. Например, К. Андерс писал о том, что завершение Нюрнбергского процесса привело к тому, что доказательства преступлений теперь забыты и находятся в архивных папках [ Anders , 1948, S. 6]. Количество таких процессов к 1960-м гг. достаточно резко снизилось, а к концу 1960-х гг. они прекратились. Одной из причин этого было утвердившееся мнение о том, что главные нацистские преступники уже предстали перед судом, а заниматься преследованием каждого немца, который состоял ранее в НСДАП, не является правильным. Таким образом, немецкая правовая система не предполагала, что простой немец может быть осужден за «соглашательство» или поддержку нацизма и должен отвечать за эти преступления.
Немецкая юстиция ФРГ практически отказалась от применения норм Международного военного трибунала, опираясь на принятую в 1949 г. Конституцию, согласно которой закреплялся запрет обратной силы закона. Суды рассматривали преступления нацистов в соответствии с нормами уголовного права, действовавшего на момент совершения преступления, следовательно, не опирались на международные нормы права, которые возникли позже. Дела рассматривались судами в соответствии с нормами Уголовного кодекса Германии 1871 г. как отдельные убийства, а не как преступления против человечества [ Грахоцкий , 2022, с. 158].
Судебная система Западной Германии наследовала правовые традиции прошлого времени. Многие юристы и судьи начинали свою карьеру еще при нацистском режиме. Они получи- ли образование и осуществляли практику в парадигме юридического позитивизма, согласно которой в качестве правовых норм признавались только нормы позитивного права, которые считались действующими и обязательными для соблюдения. При этом совершенно неважным было, справедливые это нормы или нет. Это означало, что все этические аспекты оставались за рамками закона. Л. Л. Фуллер пишет: «К 1927 г. можно было услышать следующее: “Быть уличенным в следовании теориям естественного права – общественный позор”» [Фуллер, 2005, с. 148]. Немецкий философ права Г. Радбрух также указывал на превалирование концепции юридического позитивизма среди немецких юристов, которая оставила их беззащитными перед «произвольными» и «преступными» законами [Radbruch, 1946, S. 105]. Считается, что определенную роль в утверждении позитивизма в праве сыграли работы Г. Кёльзена, который видел задачу юридической науки в описании и логической систематизации существующего права. Его «чистая теория права» (Reine Rechtslehre) стала теорией действующего права, которая не ставила этических вопросов. «Справедливость, – пишет он, – не может быть чертой, выделяющей право среди других принуждающих порядков… тот факт, что содержание действующего принуждающего порядка можно расценить как несправедливое, еще не есть основание для того, чтобы не признавать этот принуждающий порядок правопорядком» [Чистое учение о праве…, 1987, с. 69‒70]. В 1962 г. в рамках дискуссии о естественном и позитивном праве он пишет, что с точки зрения правовой науки право при нацистах тоже является правом. Об этом можно сожалеть, но нельзя отрицать, так как основная норма не может ничего изменить в данности права [Das Naturrecht in der politischen Theorie, 1963, S. 148]. В итоге немецкие юристы оказались в сложном положении, так как их знания и практический опыт достаточно четко определяли, как должно организовываться судебное производство – на основе действующего законодательства, а не на создании новых судебных прецедентов.
Несмотря на эту сложность, правосудие над военными преступниками в Западной Германии осуществлялось, и постепенно стали вноситься изменения в уголовное законодательство. В 1950–1980-х гг. произошло несколько громких судебных процессов в ФРГ и за ее пределами, которые сильно повлияли на немецкую общественность.
Первым таким судебным процессом можно назвать Ульмский процесс в 1958 г. над 10 членами айнзатцкоманды «Тильзит» [ Грахоцкий , 2022]. В ходе суда прокуроры для некоторых из подсудимых требовали пожизненного заключения за совершенные преступления, но суд принял мягкое решение. Преступники были приговорены к тюремному заключению от 3 до 15 лет по обвинению в «соучастии в коллективном убийстве» («Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord») [Findbuch zum Bestand…]. Судебный процесс активно освещался и вызывал широкий отклик. Заголовки новостей этого времени – «Самая мрачная глава в истории Германии», «В Ульме проходит целая эпоха», «Наконец-то правда стала известна» и т.д. [ Müller , 2009, S. 205] ‒ свидетельствуют об осуждении преступлений с точки зрения нравственности.
Несмотря на то что приговор был мягким, сам факт и масштабность судебного процесса содействовали признанию важности уголовного расследования преступлений национал-социализма. В 1958 г. в Людвигсбурге было создано Центральное ведомство управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма. Благодаря деятельности данного ведомства в 1960–1970-е гг. были собраны материалы, задержано много нацистских преступников, ранее входивших в айнзатцкоманды, и проведено 44 судебных процесса [Nehmer, 1998]. Работа центра и освещение этих судебных процессов были важными аспектами в проектировании «ответственного за прошлое» немца, так как в «эпоху Аденаура» (1949‒1963) забвение прошлого стало доминирующей позицией для большинства западных немцев и поддерживалось на государственном уровне. Прошлое «попутчиков» старого режима объявлялось частным делом и не афишировалось при условии, что эти люди не будут подрывать новый демократический порядок [Кёниг, 2012, с. 19]. Тем самым утверждалось мнение, что нацистских преступников не так много и они несут ответственность, а с «попутчиков» ответственность снималась. Попытки изменить данную установку в обществе часто лишь провоцировали недовольство и агрессивные настроения в немецкой среде. Помимо этого, в обществе стали усиливаться антисемитские настроения среди молодежи: 24 декабря 1959 г. в Кёльне были оскверне- ны синагога и памятник жертвам национал-социализма. В целом до конца 1960 г. в ФРГ было зарегистрировано 470 антисемитских инцидентов [Там же, с. 25].
Некоторые немецкие интеллектуалы достаточно остро восприняли проявление антисемитизма, так как это виделось ими как признак возвращения к нацизму, что было недопустимо. В 1959 г. Т. Адорно в радиовыступлении говорил об опасности «забвения национал-социализма»: «От прошлого хотят избавиться: это справедливо, потому что в его тени жить невозможно и потому что если за вину и насилие всегда расплачиваться виной и насилием, то чувству страха не будет конца; и несправедливо, потому что прошлое, от которого хотят убежать, еще живо» [ Адорно , 2005]. Он отмечает, что в преодолении прошлого значимую роль должно играть образование. Факты антисемитизма привели в итоге к тому, что в школьную программу истории и обществознания были введены указания о том, как рассказывать о недавнем прошлом Германии [ Черепанова , 2023].
Другим значимым судебным процессом, повлиявшим на конструирование проекта «ответственного за прошлое» немца, стал суд над А. Эйхманом в 1961 г. в Иерусалиме. Значимую роль здесь сыграла книга Х. Арендт «Эйхман в Иерусалиме», которая вышла в 1963 г. и была воспринята негативно в ФРГ. На примере жизни Эйхмана и суда над ним она ставит вопрос о природе зла: что влияет на то, что обычный человек подпадает под его влияние и совершает ужасные преступления, не видя своей вины. Эйхман во время судебного процесса, как и многие другие подсудимые в иных процессах, не признавал своей вины: «Я не убивал евреев… я не убил ни одного человеческого существа. Я не отдавал приказа убить ни еврея, ни нееврея: я просто этого не делал» [ Арендт , 2008, с. 43]. Арендт фиксирует один важный аспект, повлиявший на проект человека в ФРГ, – способность человека критически мыслить является основанием сопротивления злу в мире: «что наше умение судить, различать правильное и неправильное, прекрасное и безобразное зависит от нашей способности мышления» [ Арендт , 2014, с. 220].
Вторым значимым процессом в ФРГ стал Франкфуртский процесс в 1963–1965 гг. – суд над сотрудниками гестапо концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим). На скамье подсудимых оказалось 60 бывших надзирателей лагеря. К участию в суде было привлечено около 360 свидетелей из 19 стран, включая 210 бывших узников [ Кауганов , 2015, с. 47]. Наблюдатели процесса отмечали, что подсудимые создавали впечатление обычных людей и совершенно не были похожи на преступников. Среди свидетелей нередко были функционеры нацистского режима, которые тоже должны были быть на скамье подсудимых. В правовом плане адвокатами была использована традиционная линия защиты – обвиняемые лишь выполняли приказ, верили в правомерность осуществляемых действий и, как следствие, не осознавали их преступности. В рамках процесса адвокаты обвинения, опираясь на концепцию крайней необходимости в силу приказа (Befehlsnotstand), оперировали именно этим аргументом – необходимостью выполнять преступные приказы руководства под угрозой собственной жизни и здоровью. В итоге Верховным судом ФРГ были определены признаки крайней необходимости в силу приказа в последующих выносимых приговорах и подчеркивалось, что если не предпринималось попыток отказа от участия в преступлении, то подсудимого не могли признать находившемся в состоянии крайней необходимости [ Грахоцкий , 2022, с. 165]. Подсудимые виновными себя не признавали и преимущественно молчали, либо утверждали, что ничего не знают или ничего не помнят. Прокуроры во время процесса старались доказать, что подсудимые добровольно работали в концлагере и знали, что основная задача лагеря – массовое уничтожение людей, заключенных в нем. Иными словами, они старались доказать, что приказы руководства исполняли люди, которые разделяли идеи национал-социализма, а, следовательно, можно говорить о наличии преступного замысла и нельзя ссылаться на концепцию крайней необходимости.
Итогом судебного процесса стал приговор, согласно которому шесть подсудимых получили пожизненный срок, 11 человек было приговорено к срокам от 3 до 14 лет, три человека были оправданы, один отпущен в связи с болезнью и еще один подсудимый умер во время процесса [Werle, Wanders, 1995, S. 86]. Результаты суда, конечно, не устраивали сторону обвинения, но, например, Ф. Бауэр говорил, что был готов к мягкому приговору суда. Главное, что благодаря данному процессу немецкое общество узнало правду о том, что происходило в Ау- швице, а германская демократия может защитить достоинство каждого человека [Ibid., S. 43]. Для него преодоление прошлого означало суд над нами самими, а также обращение к подлинным человеческим ценностям в прошлом и настоящем [Bauer, 1965]. Позднее он скажет о том, что западным немцам необходима «новая педагогика человечности» [Bauer, 1998, S. 86].
Процесс оказал сильное влияние на общество, в частности, на молодое поколение юристов. Б. Шлинк следующим образом описывает это время в своем автобиографическом романе «Чтец»: «Осмысление! Осмысление прошлого! Мы, студенты, участники семинара, считали себя авангардом тех, кто взялся за осмысление прошлого. … Мы хотели ясности. Мы тоже не слишком полагались на правоведческие премудрости. … Суд шел над целым поколением … мы судили это поколение и приговаривали его к тому, чтобы оно хотя бы устыдилось своего прошлого» [ Шлинк , 2022, c. 83]. Шлинк достаточно много рефлексировал о судебной системе Западной Германии и возникающих в связи с этим проблемах в осознании прошлого. Он отмечал столкновение этики и права, фиксируя, что «чувство коллективной вины», которое наложило отпечаток на судьбы «второго поколения», не находит отражения в праве, так как в последнем нет понятия «коллективной вины» [ Schlink , 2002].
Вместе с этим, несомненно, судебные процессы в 1950–1980-е гг. демонстрировали немецкому обществу, что от прошлого нельзя отрешиться. «Прошлое является материалом, который содержит в себе темы и проблемы морального характера. Ответственность и принципы, сопротивление и приспособленчество, верность и предательство, неуверенность и решительность, власть, алчность, право и совесть – нет такой моральной драмы, которая не разыгралась бы в прошлом, обнаруживая свою близость к нынешней реальности» [ Шлинк , 2022, с. 209].
Это подтверждается также дебатами вокруг вопроса об истечении срока давности нацистских преступлений, которые проходили в ФРГ в 1960-е гг. В соответствии с законодательством ФРГ 8 мая 1965 г. должен был закончиться срок исковой давности за преступления национал-социализма. В рамках этой дискуссии обсуждались не только юридические, но и этические аспекты проблемы. В период дискуссии в марте 1965 г. было проведено несколько опросов среди немцев, чтобы выявить общее настроение. Например, по результатам опроса Института демоскопии Алленсбаха, «57 % опрошенных высказались за подведение итоговой черты, 32 % поддержали дальнейшее преследование нацистских преступников, 11 % воздержались» [ Сайнакова , 2012, с. 142]. Таким образом, большая часть общества негативно относилась к продолжению судебных процессов (за исключением самых громких судебных дел) и стремилась подвести черту по переосмыслению прошлого. Но в итоге было принято решение в Бундестаге, что 26 июня 1969 г. срок давности будет полностью отменен, а окончательное решение об этом было принято в 1979 г.
Проводимые в 1950‒1960-е гг. судебные процессы над нацистскими преступниками в ФРГ оказали значимое влияние на проектирование «ответственного за прошлое» немца. В рамках процессов ставилась задача не только возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим, но и ставилась задача реабилитации правовой системы ФРГ как справедливого института, базирующегося на принципах признания прав человека, верховенства права и равенства всех перед законом.
Этические основания проектирования «ответственного за прошлое» немца
Немецкое общество в первые послевоенные годы относилось негативно к проведению судебных процессов над нацистскими преступниками: «Среди немецких граждан доминировало мнение о том, что немцы являлись заложниками тоталитарного нацистского режима, вина за преступления национал-социализма лежит исключительно на Гитлере и его ближайшем окружении» [Грахоцкий, 2019, с. 147]. Судебные процессы, организуемые на территории оккупированной Германии, воспринимались немцами как «трибуналы победителей», которые не имеют ничего общего с принципами правосудия. Вместе с этим некоторые представители немецкой интеллигенции не были так кардинально настроены и осознавали важность формирования поколения, которое будет осуждать национал-социализм как явление, и старались преодолеть сопротивление немецкого общества, видя опасность в «замалчивании» прошлого. «Наши дети, ‒ писал в 1955 г. член литературного объединения «Группа 47» Г. Бёлль, ‒ ничего не знают о том, что происходило десять лет назад. … историческая реальность таких мест, как Треблинка и Майданек, им совершенно неизвестна… Наши дети этого не знают, а мы, зная, стараемся не думать и не говорить об этом… Неосведомленность детей доказывает, что совесть их родителей – наша совесть – мертва» [Бёлль, 1990, с. 659].
Вопросом осмысления вины и ответственности занимались К. Ясперс, Х. Арендт, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Р. Дарендорф, О. Когон, А. Дёблин, Г. Бёлль и другие интеллектуалы. В 1946 г. выходит первое исследование о преступном характере нацистского режима «Государство СС: система немецких концлагерей» немецкого политолога и бывшего узника Бухенвальда О. Когона. «Довод о том, что эта книга нанесет ущерб немецкой национальности, я не принимаю в расчет, даже если мне, как я подозреваю, сто раз возразят против этого.... Позор Германии не может быть более очевидным, хотя пример глубокого падения Германии – которое является человеческим, даже если оно превратилось в бесчеловечное – может стать для мира предостережением от повторения подобного. Для этого необходимо, чтобы мир не был фарисейским и не прятал Германию » [ Kogon , 1983, S. 8]. Он отмечает, что именно экспертное заключение о системе немецких лагерей скорее станет началом очистительного процесса, чем рассуждения политиков и моралистов. Также в 1946 г. немецкий философ К. Ясперс прочитал ряд лекций в Гейдельбергском университете, а позже опубликовал книгу «Вопрос о виновности». Он писал о том, что вопрос вины неоднозначный и можно выделить четыре вида виновности – уголовную, политическую, моральную и метафизическую. Немецкий народ перед миром может нести лишь политическую ответственность за режим и его преступления. Важным в процессе переживания прошлого является его признание: «Мы должны взять на себя вину наших отцов. За то, что в духовных условиях немецкой жизни была возможность для такого режима, мы несем со-ответственность» [ Ясперс , 1999, с. 10]. Он отмечает, что, наряду с политической и уголовной ответственностью за совершение зла, есть и моральная ответственность у каждого немца. Преступления остаются преступлениями и тогда, когда они совершены по приказу, каждое действие подлежит моральной оценке. Вместе с этим немецкое общество долгие годы старалось забыть прошлое: «Оглядываясь сегодня на те годы, я обнаруживаю, что у нас было до странности мало наглядного материала, который помог бы представить, как жили люди в лагерях и как их уничтожали» [ Шлинк , 2022, с. 143].
Практики отрицания были первой реакцией на данный период в истории немецкого народа, и дальнейший путь по «озвучиванию» был сложным. Т. Адорно пишет: «Механизмы включаются только тогда, когда налицо осознание преступления… Самозащита есть знак осознаваемого стыда, здесь открывается перспектива надежды» [ Adorno , 1975, S. 150]. 7 декабря 1970 г. канцлер ФРГ В. Брандт совершил визит в Варшаву, где посетил памятник жертвам восстания в Варшавском гетто и при возложении венка опустился на колени перед мемориалом. Данное событие стало одним из поворотных для Западной Германии, хотя и было воспринято неоднозначно: «Вина немцев и католические обычаи, польская граница и страдания евреев: каждый из этих вопросов поляризует взгляды немцев. Хотя, как показывают многочисленные опросы, большинство в основном стремится извлечь уроки из прошлого. Но неизмеримы эмоции, которые вызывает каждая из этих тем, а теперь еще и фотография Брандта перед мемориалом Гетто» [Kniefall Angemessen…, 1970, S. 27]. Важно отметить, что, по результатам опроса журнала «Шпигель», 41 % респондент сочли поведение Брандта уместным, что может демонстрировать осознание прошлого и принятие за него ответственности. Вместе с этим международное сообщество продолжало напоминать о том, что произошло во время режима национал-социализма. В 1978 г. вышел американский сериал «Холокост», который в ФРГ был показан только в январе 1979 г. и оказал сильное впечатление на немецкое общество. Более того, после трансляции каждого эпизода в прямом эфире проводилась телевизионная дискуссия под руководством программного директора WDR (Westdeutscher Rundfunk) Х. В. Хюбнера. В одной из таких трансляций принял участие О. Когон, который отмечал, что сериал может способствовать тому, «чтобы человечность стала при всех обстоятельствах масштабом нашего мышления и действия» [ Борозняк , 2023, с. 160].
Постепенно юридические процессы и их обсуждение в этическом ракурсе начали оказывать влияние на немецкое общество. У части немецкого общества, особенно молодежи, не мог не вызвать вопроса тот факт, что немецкие суды часто выносили по делам нацистских преступников мягкие решения. Особенно это стало заметным во второй половине 1960-х гг. в период студенческих протестов, одной из причин которых было критическое переосмысление национал-социалистического прошлого Германии. Р. Дарендорф писал об этом времени: «Сломленное глухое и долгое молчание, и преодоление прошлого становится серьезным… Новое поколение может ставить вопросы, не опасаясь, что ответы чувствительно затронут самих себя» [Там же, с. 150].
Политические и экономические задачи превалировали над решением вопросов, связанных со справедливостью и принятием ответственности. Некоторые мыслители видели в этом опасность возвращения старых порядков. В 1966 г. вышла в свет книга К. Ясперса «Куда движется ФРГ?», где он достаточно жестко высказывается о современной политике Западной Германии и выражает опасения о ее будущем. Он отмечает, что, несомненно, в материальном отношении ФРГ живет сегодня как никогда хорошо, но вместе с этим демократия в стране меняется не в лучшую сторону и идет по пути, «в конце которого не будет ни демократии, ни свободного гражданина» [ Ясперс , 1969, с. 27]. Необходимым шагом к свободе он видит «коренное изменение в образе мышления», так как «терпение верноподданных, довольных своим бытием» несет опасность. «“Преодоление прошлого” находит свое выражение не в забвении, не в чувстве “стыда” за прошлое, прикрывающем тайное прощение, а только в решительном повороте, в частности, в безоговорочном признании результатов войны» [Там же, с. 113]. Конечно, пишет он, «война была развязана по нашей вине. … Мы должны морально и политически примириться с результатами развязанной нами войны. В противном случае мы – враги мира» [Там же, с. 126].
Казалось бы, общество постепенно начинало принимать в лице «второго поколения» свою вину и ответственность за прошлое, но в 1986 г. на фоне разговоров о политическом будущем ФРГ и свободы от прошлого в Германии разгорелся так называемый «спор историков». В нем участвовали две группы: первая во главе с профессором Свободного университета Западного Берлина Э. Нольте, а вторая была представлена философом Ю. Хабермасом. Ключевой темой спора стало отношение к нацистскому прошлому. В. В. Рулинский пишет: «Историки, которых условно можно объединить вокруг фигуры Эрнста Нольте, считали недопустимым унижение национального величия и старались не акцентировать внимание на ошибках прошлого. Другие, условно объединенные вокруг фигуры Юргена Хабермаса, напротив, полагали необходимым правдиво рассказывать обо всех преступлениях предшествующих поколений, видя в выявлении этих преступлений залог для утверждения нормального будущего страны» [ Рулин-ский , 2013, с. 46]. Так, Э. Нольте в статье «Прошлое, которое не хочет уходить», опубликованной в газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», подчеркивал, что не стоит преувеличивать значение массовых убийств евреев, что преступления нацистов на фоне других преступлений не так уж и уникальны, достаточно обратиться к примеру Гражданской войны в России, коллективизации и красному террору [«Historikerstreit». Die Dokumentation…, 1987, S. 35]. Хабермас через некоторое время опубликовал в газете «Ди Цайт» свой ответ в статье с подзаголовком «Апологетические тенденции в германской историографии новейшего времени», в которой подверг критике высказывания Э. Нольте и его сторонников, обвинив их в стремлении оправдать действия нацистов. Для философа переосмысление таким образом истории, будто только тогда возможно говорить о патриотизме, вызывало непонимание, так как единственным патриотизмом для Германии может стать только конституционный патриотизм. Как отмечает Ю. Шеррер, «с тех пор понятие конституционного патриотизма стало основным в исторической политике в ФРГ, а признание геноцида европейских евреев как исторически беспрецедентного феномена легло в основу политического самосознания ФРГ» [Шеррер, 2002, с. 484].
К февралю 1987 г. дискуссия стихла, идеи Э. Нольте получили слабый отклик как в академической, так и общественной среде. К. Леггви отмечает, что «спор историков» в принципе больше носил интеллектуальный и символический характер и не мог оказать сильного политического влияния [Leggewie, 2008, S. 50]. Но дебаты привели к интересному результату в куль- турном плане, что отражено у Р. Ляйхта, сторонника идей Ю. Хабермаса: «Критическое отношение к собственной истории не является дефектом национальной идентичности. … Мы не можем строить наше будущее, если будем ретушировать наше прошлое» [«Historikerstreit». Die Dokumentation…, 1987, S. 364]. В итоге принятие нацистского прошлого и критическое отношение к нему становилось все более значимым для немецкого общества.
Принятие ответственности и вины немецким обществом, к которому призывал К. Ясперс как к необходимому условию приобретения свободы, на политическом уровне произошло только в конце 1980-х гг., что можно считать определенным признаком завершения реализации проекта человека, противостоящего человеку нацистского общества. Это нашло отражение в речи президента ФРГ в 1984 г. Р. фон Вайцзеккера, которая предшествовала «спору историков»: «Понять сразу, что к чему, было не так просто. Смятение и неясность царили во всей стране. Капитуляция была безоговорочной. В руках победителей находилась вся наша судьба. Прошлое было ужасно, и таким же оно было для многих из них. … Нельзя задним числом изменить прошлое, нельзя его отменить. Но всякий, кто закрывает глаза на прошлое, становится слепым и к настоящему» [ Weizsäcker ].
Заключение
В постконфликтный период ФРГ столкнулась с рядом проблем, которые было необходимо решать в ближайшие десятилетия: нужно было утвердить в обществе устойчивые демократические институты, завершить расследования по нацистским преступлениям. Это было необходимым условием для принятия Германии в международное сообщество. Помимо этого, для устранения возможности новой мировой войны было важно воспитать поколение «ответственных за прошлое» немцев, которое будет осуждать нацизм и все, что с ним связано. Быстрой реализации этого проекта мешало несоответствие между правовой нормой в отношении наказания нацистских преступников и этической нормой, которая формировалась в рамках концепта вины и ответственности немцев за преступления нацизма.
В своих дискуссиях интеллектуалы активно обсуждали необходимость осмысления прошлого и принятия ответственности за него немецким обществом, видя в этом единственную возможность для обновления Германии. Но идеи признания вины и принятия ответственности, о которых писали К. Ясперс, Х. Арендт, Т. Адорно и другие, встречали сопротивление в немецком обществе, поскольку постоянно происходил возврат к установке, что обычный немец не может быть осужден за конформизм и соглашательство при нацистском режиме.
Это нашло отражение в юридических практиках, которые не соответствовали проекту «ответственного за прошлое» немца. Можно говорить о том, что право предлагало другое видение немца – независимого от исторических изменений, которого, следовательно, нельзя осуждать лишь за то, что он жил при национал-социализме. В этом плане суд как государственный институт функционировал вне этики. Несмотря на эту специфику, осуществление правосудия над военными преступниками в Западной Германии проводилось, и постепенно под влиянием международного сообщества и интеллектуалов стали вноситься изменения в уголовное законодательство. Таким образом, стала решаться задача формирования правовой системы ФРГ как справедливого института, базирующегося на принципах признания прав человека и равенства всех перед законом.
Список литературы Проектирование «ответственного за прошлое» немца в ФРГ в 1950-1980-е годы: этические и правовые аспекты
- Абакумова И.В., Рядинская Е.Н. Интегральный сравнительный анализ подходов к постконфликтному урегулированию вооруженных конфликтов // Ученые записки. Электрон. науч. журнал Курск. гос. ун-та. 2017. № 3 (43). С. 257-264.
- Адорно Т. Что значит «проработка прошлого?» [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html (дата обращения: 05.04.2024).
- АрендтХ. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008. 424 с.
- Арендт Х. Ответственность и суждение. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. 352 с.
- Бёлль Г. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 2. 719 с.
- Борозняк А. Жестокая память: как Германия преодолевает нацистское прошлое. М.: Альпина Паблишер, 2023. 470 с.
- Грахоцкий А.П. Айнзатцкоманда 8 и особенности правосудия ФРГ (1960-1970-е гг.) // Труды Инта государства и права РАН. 2022. Т. 17, № 2. С. 155-175.
- Грахоцкий А.П. Франкфуртский процесс (1963-1965 гг.) и преодоление прошлого в Германии // Lex russica. 2019. № 3. С. 146-158.
- Кауганов Е.Л. Содержание и динамика немецкой национальной идентичности после Второй мировой войны: 1945-2000-е гг.: дис.... канд. истор. наук. М., 2015. 207 с.
- Кёниг Х. Будущее прошлого: национал-социализм в политическом сознании ФРГ. М.: РОССПЭН, 2012. 164 с.
- Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за нацистские преступления // Вестник славянских культур: научно-информационный журнал. 2013. № 1 (XXVII). С.46-56.
- Сайнакова В. С. Дискуссия в Западной Германии по вопросу об отмене срока давности привлечения к ответственности за преступления национал-социализма в 1964-1965 гг. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2012. № 1 (17). С. 142-146.
- Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901737883 (дата обращения: 20.01.2024).
- Фуллер Л.Л. Позитивизм и верность праву: ответ профессору Харту // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 6 (263). С. 124-159.
- Черепанова Е.С. Философско-антропологические основания немецкой педагогики мира: трансформация основных понятий и подходов // Дискурс-Пи. 2023. Т. 20, № 3. С. 121-137.
- Чистое учение о праве Ганса Кельзена: сб. переводов. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1987. Вып. 1. 195 с.
- Шеррер Ю. Германия и Франция. Проработка прошлого // Историческая политика в 21 веке. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 473-505.
- ШлинкБ. Чтец. СПб.: Азбука, 2022. 224 с.
- Ясперс К. Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии. М.: Прогресс, 1999. 146 с.
- Ясперс К. Куда движется ФРГ? Факты. Опасности. Шансы. М.: Международные отношения, 1969. 224 с.
- Adorno T. Gesammelte Schriften 9/2. Soziologische Schriften II. Zweite Hälfte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975. 509 S.
- Anders K. Im Nürnberger Irrgarten. Nürnberg: Nest, 1948. 230 S.
- Bauer F. Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handels. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1965. 122 S.
- Bauer F. Die Humanität der Rechtsordnung. Ausgewählte Schriften. Frankfurt am Main; New York: Campus Verlag, 1998. 436 S.
- Das Naturrecht in der politischen Theorie. Erstes Forschungsgespräch // Schmölz, F.-M. (Hrsg.). Wien: Springer, 1963. 168 S.
- Findbuch zum Bestand R 20/003 05. Tondokumente zum Urteilsspruch im NS-Einsatzkommando-Prozess // Landesarchiv Baden-Württemberg. Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Available at: https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=21826&klassi=&anzeigeKlassi=001 (accessed: 15.12.2023).
- «Historikerstreit». Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung / R. Augstein (Hrsg.). München: Piper Verlag, 1987. 397 S.
- Kogon E. Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. München: W. Heyne, 1983. 427 S.
- Kniefall Angemessen oder Übertrieben? SPIEGEL-Umfrage über Willy Brandts Totenehrung am Ehrenmal im früheren Warschauer Getto // Der Spiegel. 1970. No. 51. S. 27.
- Leggewie C. Historikerstreit - transnational // Die Gegenwart der Vergangenheit. Der «Historikerstreit» und die deutsche Geschichtspolitik / Kailitz Steffen (Hrsg.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008. S. 50-71.
- Müller S. Vom Recht zur Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte // Zum Drehbuch einer Ausstellung. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess von 1958 / J. Finger, S. Keller, A. Wir-sching (Hrsg.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2009. S. 205-218.
- Nehmer B. Die Täter als Gehilfen? Zur Ahndung von Einsatzgruppenverbrechen // Die juristische Aufarbeitung des Unrechts-Staats / Hg. T. Blanke, S. Baier. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges., 1998. S.635-668.
- Radbruch G. Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht // Süddeutsche Juristen-Zeitung. 1946. Jd. 1, Nr. 5. S. 105-108.
- Schlink B. Vergangenheitsschuld und gegenwärtiges Recht. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2002. 156 S.
- Weizsäcker R. von. Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Deutschen Bundestages zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa // Der Bundespräsident. Available at: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1985/05/19850508_Rede.html (accessed: 18.10.2023).
- Werle G., Wanders T. Auschwitz vor Gericht: Völkermord und bundesdeutsche Strafjustiz. Mit einer Dokumentation des Auschwitz-Urteils. München: Beck, 1995. 240 S.