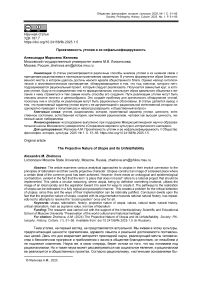Проективность утопии и ее нефальсифицируемость
Автор: Желнова А.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные способы анализа утопий в их неявной связи с принципами рационализма и наглядным проективным характером. В утопиях формируется образ благословенного места, в котором удалось достичь некоего идеала общественного блага. Однако налицо онтологическое и эпистемологическое противоречие, обнаруживающееся в том, что под «местом, которого нет», подразумевается рациональный проект, который следует реализовать. Получается замкнутый круг, в котором утопия, будучи по определению чем-то иррациональным, использует образ идеального общества и желание к нему стремиться и тем самым искать способы его создания. Пути реализации утопии могут быть описаны вполне логично и целесообразно. Это создаёт проблему для критического обнаружения утопий, поскольку они и способы их реализации могут быть рационально обоснованы. В статье делается вывод о том, что проективный характер утопии вкупе с ее аргументацией к рациональной естественной истории неоднократно приводил к попыткам раз и навсегда разрешить «общественный вопрос».
Утопия, рационализм, история, проективный характер утопии, ценности, естественное состояние, естественная история, критический рационализм, человек как высшая ценность, железный закон либерализма
Короткий адрес: https://sciup.org/149147688
IDR: 149147688 | УДК: 167.7 | DOI: 10.24158/fik.2025.1.5
Текст научной статьи Проективность утопии и ее нефальсифицируемость
тия, познания и поведения людей являются принципы разума»1. Эти принципы одинаково эксплицированы как в теоретическом, так и практическом пространстве знания, которые изначально различны. Средневековая двойственность в интерпретации рационализма демонстрирует амбивалентность этого принципа. В эпоху главенства духовных ценностей над прагматизмом рационализм проявляется в текстах не только позднего Средневековья, но и у апологетов идеи первичности веры по отношению к разуму Климента Александрийского и Августина Блаженного2.
Исторически соотношение теоретического знания и практики изменялось. Идея рациональности доминирует над способами реализации знания на практике. Если заглянуть в более раннюю эпоху Античности, то при первом приближении авторы декларируют приоритет мышления человека над чувствами. Аристотель выделяет знание творческое, практическое и теоретическое. Внутри последнего он превозносит философию за ее ненужность в практической жизни и за то, что «все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше ‒ нет ни одной» (Аристотель, 1934).
Первая философия, раскрывая метафизическую сущность бытия, не имеет проективного характера. Предмет высшей теоретической мысли в эту эпоху отделяется от практических задач. Однако среднее положение занимает древнегреческое techne, соединяя в себе ремесленную практику и этически-теоретическое знание того, как правильно практиковать (как сделать в согласии с истинным). Оно находится между высокой теорией и прикладной сферой деятельности. Обучение юноши этически обусловленному «искусству соизмерять» (метод определения правильности поступка, похожий на арифметику), по мысли Сократа, помогает воспитать в нем мужество. В диалоге «Протагор» он открывает две стороны знания: теоретическую и практическую. Знание обретает практическое значение. Понимание добродетели лежит одновременно через технэ (искусство) и эпистему (знание)3. Благими намерениями объясняется создание высокого образца общества в «Государстве» Платона, которое, на первый взгляд, не имеет проективного характера4.
На обывательском уровне понятие «утопия» связано с чем-то бессмысленным и химерическим. Одновременно с этим нельзя отбросить ее проективный характер. Утопия полагается, с одной стороны, как химера, а с другой ‒ строится на рациональных принципах и задумывается как проект. Имея целью создание утопических проектов, мыслитель действует вполне рационально и строит утопию на рациональных принципах. Рациональность – это культурная ценность, а, следовательно, она имеет иррациональное ядро, само себя подтверждающее и самопротиво-речивое. Она должна быть рассмотрена прежде всего как ценность культуры, а не как эталон истины или пути к ней.
Благая идея, в основании которой лежат идеалы добродетели и рациональные принципы, может оказаться утопией. Способы проверки утопических проектов и конструктов методами рационального критицизма, с применением принципа фальсифицируемости, сами нуждаются в логическом анализе и не являются аргументом в современной философии науки, поскольку «понимание рациональности, критицизма, того, что является убедительным аргументом, зависит от конкретно-исторического контекста» (Лекторский, 1996: 11).
Однозначно противопоставить утопию и рационализм или придать последнему статус панацеи не удается. Внимательный анализ утопических произведений показывает их связь с идеями рационализма. Например, во второй части «Утопии» Томаса Мора главный герой («Рафаэль Гит-лодей: Рафаэль ‒ это имя, которое отсылает к иудео-христианской традиции: архангел Рафаил ‒ исцелитель, покровитель путников… фамилия Гитлодей имеет совершенно другой смысл ‒ торговец чепухой»5) рассказывает об устройстве некоего совершенного общества. Его отличительными свойствами являются отказ от частной собственности и «опора на естественное состояние»6.
Стэнфордская энциклопедия по философии, анализируя это произведение английского гуманиста, отсылает нас к Цицерону и его трактату «Об обязанностях», где он пишет об узах рациональности, объединяющих человечество и дающих общее право на всё, что создано природой1. Цицерон пишет: «…чтобы узнать, каковы естественные основы уз между людьми и человеческим обществом, надо обратиться к более давним временам; ведь первая основа ‒ та, которая усматривается в общности всего рода людского. Связью этой общности служат разум и дар речи, которые посредством наставления, изучения, взаимного общения, обсуждения и принятия решений сближают и объединяют людей, так сказать, в естественное общество» (Цицерон, 2020: 206 (XVI, 50)).
То есть при анализе утопии Мора суть замысла обустройства идеального социального порядка раскрывается через сравнение с естественным состоянием общества, основанным на принципах разума, языка и рациональности. «Содружество, действительно широчайше открытое для людей в их взаимоотношениях, для всех в их отношениях со всеми, ‒ это такое, в котором надо соблюдать общность всего того, что природа произвела на потребу всем людям» (Цицерон, 2020: 207 (XVI, 51)), и которое основано на «естественных» принципах.
В «Утопии» Мор конструирует проект, где нет частной собственности. Незаслуженно упрекаемый за тоталитаризм своего идеального государства, Платон создает его на философско-онтологической основе. Идея «естественного состояния» обнаруживается в принципах устройства государства, содержащих указание на онтологический статус каждого гражданина и его положение в полисе: «Если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать» (Платон, 2007: 225). Определяющее значение социального статуса гражданина имеет врожденная способность к познанию подлинных идей и истины. В обоих случаях утопии апеллируют к естественному состоянию как рациональному и не требующему доказательств.
Проективный характер утопии, то есть направленность на реализацию созданного на бумаге замысла идеального устройства общества, говорит либо о полагаемой авторами связи утопии и реальности, либо вообще об онтологической подоплеке разумения о совершенном общественном устройстве, как в случае с Платоном. Общность утопии и рациональности обнаруживает себя в пространстве культуры и «культурного», которое имеет объективный и онтологический статус. Утопический, пусть даже художественный проект, опирающийся на авторитет традиции, мудрствующей о естественных принципах или естественном состоянии общества, становится идеалом. Близость утопий и идеалов может быть мощным катализатором трансформаций представлений людей об их будущем и влиять на ход истории. «Бред неимущих является генератором событий и источником истории: утопия – толпа безумцев, желающих иного мира на этом свете и немедленно. Именно они вдохновляют утопии, и для них эти утопии пишут. Однако не стоит забывать, что слово “утопия” значит нигде » (Чоран, 2023: 106).
К проблеме онтологического статуса утопии отсылает этимология данного понятия: «утопия» дословно переводится как «место, которого нет». Но этому однозначному пониманию и переводу противоречит проективный характер утопического замысла: места еще нет, и его следовало бы создать. Представления о рациональном и ценностно-значимом авторы черпают в культуре. Ее творческий характер перемешивается с проективным во многих смыслах.
Отдельного изучения заслуживает смысл, приписываемый понятиям «утопия» и «антиутопия». Последнее впервые прозвучало в выступлении Джона Стюарта Милля перед британским парламентом 12 марта 1868 г. Он критиковал предлагаемые правительством реформы, которые были рациональны с точки зрения его членов (иначе они бы не выносили их на обсуждение парламента). По мнению Милля, те, кто предложил реформы, ‒ антиутописты, так как «то, что обычно называют утопическим, ‒ это нечто слишком хорошее, чтобы быть осуществимым; но то, что они, по-видимому, одобряют, слишком плохо, чтобы быть осуществимым» (Boyce, 1996).
На наш взгляд, важно отметить, что утопия и антиутопия, противопоставляемые друг другу, имеют в этой антитезе общее место, где они рассматриваются с проективной и рациональной перспектив. Будет ли общество лучше, если претворить в жизнь принципы утопического утилитаризма Милля или антиутопические реформы правительства? И в том, и в другом случае речь идет о проектах.
Мечты о свободном и справедливом обществе в утопиях могут быть достигнуты через набор правил и норм воображаемого общества. Интересен в данной связи «железный закон либерализма, который гласит, что всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы в конечном итоге приводят к увеличению общего объема регулирования, общего количества бумажной волокиты и общего числа бюрократов, которых привлекает на службу правительство» (Гребер, 2022: 12). Жизнь в свободном обществе возможна только при строгом следовании правилам и увеличении институтов, создающих нормы и следящих за их исполнением. Стремление к свободе оборачивается дисциплинарностью. Продвижение либеральных ценностей влечет за собой контроль и всеподнадзорность. «Предполагается, что существует негласный союз между теми, кого стали считать бедными паразитами, и лицемерными чиновниками» (Гребер, 2022: 13).
Мишель Фуко писал о негласном договоре между богатыми и бедными в пространстве оказания медицинской помощи, где первые устраивают больницы в качестве благотворителей, имея целью получение знаний о болезнях и совершенствование врачебного искусства, а вторые обретают единственный шанс на уменьшение страданий. Внешне все выглядит как взаимная забота членов общества друг о друге, а на поверку речь идет об умалении человеческого достоинства пациента, который не имеет выбора и превращается в объект клинического исследования (Фуко, 2014: 137).
Дэвид Гребер рассуждает о «бюрократизированном представлении свободы» и о том, что «в мире, где все знают правила, все играют по правилам… это такая же утопическая фантазия, как и мир совершенно свободных забав» (Гребер, 2022: 204), которых так боится рациональный нововременной субъект. Страх хаоса и анархии приводит к доверию проективному характеру правил «справедливых» утопий, невзирая на железный закон либерализма.
Принципы устройства компаний на рынке торговли и услуг, предполагающие свободную конкуренцию и между фирмами, и при продвижении по карьерной лестнице, приводят к тому, что высокие должности при прочих равных занимает индивид с особым набором социальных маркеров. «Вращающаяся дверь» американской армии символизирует процесс, в котором топовые позиции в советах директоров корпораций, выполняющих военные заказы, занимают высокопоставленные офицеры. Фундаментальные принципы бюрократической эффективности и рыночной рациональности одни и те же. Грань между государством и рынком становится совсем невидимой. Глобализация, предполагающая нивелирование границ между государствами и возможность для максимального количества людей быть гражданами мира, на поверку оказывается «первой эффективной административной бюрократической системой планетарного масштаба» (Гребер, 2022: 33).
Утопия имеет как социальное, так и эпистемологическое измерение, поскольку основана на знании. Получение знания, представляемого верным, привносит с собой стремление к его воплощению и реализации: сделать мир лучше. Создаются проекты, где на рациональных основаниях творятся утопии. Техника и технологии, которые стали активно развиваться именно в связи с доминировавшими в эпоху Возрождения и Новое время идеалами антропоцентризма и гуманизма и должны служить человеку, защищать его от опасностей окружающего мира, делать жизнь комфортнее, превратились в реальность, которая корректирует и во многом подчиняет себе человека. Рациональность принципов устройства технических конструкций проецируется на устройство общества (см., напр.: Хабермас, 2007). Эпоха модерна неразрывно связана не только с рационализмом, но и с утопизмом1. Двойственность рациональности, лежащая в основании утопических идей об улучшении общества, соединенная с имманентным стремлением к их реализации, представляет исследовательский предмет. Необходимы новые методы идентификации утопии.
Устремленность к целям, прошедшим проверку на соответствие рациональным принципам, характеризует современного человека. Издания на полках книжных магазинов призывают быть успешным, эффективным и самоуверенным. Тем же контентом заполнено пространство социальных сетей. Однако самый поверхностный анализ целей, реально стоящих перед человеком, показывает, что они имеют экзистенциальную и иррациональную природу. Только человек и его духовность могут спасти мир от технологической катастрофы. Пока же духовность заблудилась и пытается обрести самость в мире симулякров и потребления.
«Утопия представляет собой смесь наивного рационализма и секуляризованной ангелоло-гии» (Чоран, 2023: 112). Проективный характер утопии укоренен в мечте человека о лучшем мире. Именно надежды на изменения нередко заставляют людей действовать. В таком действии индивиды и группы трансформируют мир и влияют на ход истории. В этой связи интересны рассуждения об истории и утопии в их взаимосвязи. В мире мифов боги ходят среди людей. В мире утопий человек занимает место Бога, опираясь на знания, науку и технику. Сознание человека рисует утопические картины: все будут равны, начнут неукоснительно следовать правилам, «от каждого ‒ по способностям, каждому ‒ по потребностям» (Введение к Программе Коммунистической партии Советского Союза) или вернутся к «естественному состоянию». «Идея Вико создать “идеальную историю” и обвести ее “вечным кругом” содержится, применительно к обществу, в утопических системах, чьим отличительным свойством является стремление раз и навсегда разрешить “общественный вопрос”» (Чоран, 2023: 133).
Утопию не так просто идентифицировать. Философия науки ХХ века указала на проблему нефальсифицируемости рациональности. Для демаркации рационального и иррационального, ненаучного и научного необходимо сформулировать базисное проверочное высказывание, указывающее на интерсубъективно и эмпирически наблюдаемый факт, при котором гипотеза будет опровергнута. Однако формула критического рационализма сама не соответствует принципу фальсифицируемости.
Более того, известно по крайней мере два логических аргумента против рациональности. Во-первых, рациональная критика ‒ это сам разум, потому что предмет сравнивается с идеалом, заданным разумом. Но мы получаем логический круг: рациональности исторически меняются, и рациональность критикует рациональность, которая критикуется новой рациональностью. «Мы вращаемся в кругу тавтологий: критика рациональна, если она соответствует рациональности» (Порус, 1996: 244). Во-вторых, на повестке регресс в бесконечность. Рациональной критикой рациональности может быть признана критика, опирающаяся на «метарациональность». Последовательное проведение идеи «метарациональности» приводит либо к регрессу в бесконечность в поисках рациональности реr se, либо к постулированию «суперрациональности», не подверженной никакой критике (Порус, 1996: 244–245). Однако культура, где постулируется отказ от рациональности, теряет духовность.
Утопию часто путают с идеалом, что приводит к снижению ценности ориентации на идеалы культуры в повседневной жизни современного человека. «Критическое отношение к утопии, ставшее фактом нашей современной духовной ситуации, зачастую прямо переносится на понятие идеала, а признание несостоятельности утопии воспринимается как отказ от идеала вообще» (Лекторский, 1996: 6). Отличие идеала от утопии в том, что она имеет техническое измерение: утопию надо воплотить. К идеалу мы стремимся, совершенствуясь, но он недостижим. Утопия также недосягаема, ибо она нигде и место, которого нет. Разница в том, что утопия может стать проектом, а идеал, ставший проектом, уже не идеал, а цель ‒ в конце концов, цель какого-то проекта.
Обладая проективным характером, утопия, означающая место, которого нет, становится проектом того, как должно быть. При этом в построении моделей идеального устройства общества утописты исходят из принципа рационализма и власти знания. Утопия и ценности эпохи модерна похожи изначальной установкой на «разрыв» с прошлым и традицией. Вспомним все разговоры о «неоконченном проекте модерна», указывающие на такие черты современности, как ускорение времени и разрыв с традицией. Высшей ценностью модерна становится обновление и прогресс. Как сказал Филип Грэм: «Газета ‒ первый черновик истории».
Утопия нацелена на разрыв с тем, что есть. В этом смысле она полностью продукт эпохи модерна, который сделал новизну ценностью, а целями объявил безостановочное развитие и прогресс. Но если пойти иным путем, то традиционные ценности (не новизна) и культура, в ядре которых лежит принцип рационализма, определят цели истории, если таковые имеются, и помогут решить «общественный вопрос».
Список литературы Проективность утопии и ее нефальсифицируемость
- Аристотель. Метафизика / пер. и прим. А.В. Кубицкого. М.; Ленинград. 1934. 352 с.
- Гребер Д. Утопия правил: о технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии. М., 2022. 224 с.
- Лекторский В.А. Предисловие // Идеал, утопия и критическая рефлексия. М., 1996. C. 3-11.
- Маркузе Г. Разум и революция: Гегель и становление социальной теории. СПб., 2000. 541 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / пер. с древнегреч; под общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. СПб., 2007. Т. 3, ч. 1. 749 с.