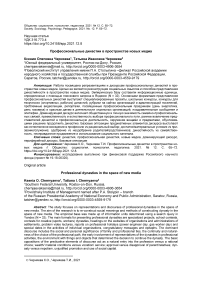Профессиональные династии в пространстве новых медиа
Автор: Ксения Олеговна Черняева, Татьяна Ивановна Черняева
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена репрезентациям и дискурсам профессиональных династий в пространстве новых медиа. Целью ее является реконструкция социальных смыслов и способов представления династийности в пространстве новых медиа. Эмпирическую базу составили информационные единицы, определенные с помощью поискового запроса в Яндексе (N = 32). Основными форматами представления профессиональных династий выступают специализированные проекты, школьные конкурсы, конкурсы для творческих (спортивных, рабочих) династий, рубрики на сайтах организаций и администраций поселений, проблемные видеолекции, репортажи, посвященные профессиональным праздникам (день энергетика, день газовика) и красным датам в деятельности отдельных организаций, поздравительные сообщения и эпитафии. Доминирующий дискурс включает общественную и личную значимость семейно-профессиональных связей, преемственность и естественность выбора профессионального пути, раннее вовлечение представителей династий в профессиональную деятельность, окружение вещами и предметами, обусловившими решение продолжить династию. Базовые оппозиции предикативных элементов дискурса выступают как естественное вхождение в профессию vs рациональный выбор; достаток/материальные условия vs призвание/служение; одобрение vs неодобрение родителей/родственников; династийность vs семейственность, неоправданное продвижение и использование социального капитала.
Династия, профессиональная династия, новые медиа, доминирующий дискурс, периферийный дискурс, базовые оппозиции
Короткий адрес: https://sciup.org/149138755
IDR: 149138755 | УДК: 316.773.4 | DOI: 10.24158/spp.2021.12.8
Текст научной статьи Профессиональные династии в пространстве новых медиа
Введение . Профессиональные династии переживают непростые времена. Появление новых и исчезновение традиционных видов деятельности, большая автономия современных детей от родителей, существенное ослабление родовых связей, продвижение ценностей социальной мобильности ставят под сомнение прежде казавшиеся нерушимыми династийные скрепы. Переход повседневности в цифровое пространство обусловил интерес к репрезентациям и дискурсам профессиональных династий в пространстве новых медиа.
Целью работы является реконструкция социальных смыслов и способов конструирования династийности в пространстве новых медиа. Эмпирическую базу составили информационные единицы, определенные с помощью поискового запроса в Яндексе (n = 32).
Старые и новые медиа . Первые десятилетия XXI века прошли под знаком кардинальных трансформаций медийного пространства. Наряду с традиционными медиа в понятийный аппарат общественных и гуманитарных дисциплин вошли концепты гибридных, конвергентных, цифро-вых/дигитальных медиа, в том числе мультимедиа, кроссмедиа, трансмедиа. Возник новый вызов – упорядочить используемую терминологию (Суворова, 2017). Мы не проводим предметную дифференциацию данных понятий – в работе используется общий термин «новые медиа». Вместе с тем мы считаем важным раскрыть некоторые свойства, процессы и тенденции как самого медийного пространства, так и специфики конструирования медиадискурсов.
Л. Манович называет пять принципов новых медиа, среди них: цифровая репрезентация, модульность, автоматизация, вариативность, транскодинг (Манович, 2018: 55–84). Содержание информации в новых медиа существенно зависит от конкретного программного обеспечения – пользователи могут получить доступ к необходимым данным, только если будут располагать соответствующими программными приложениями.
Граница между старыми и новыми СМИ проходит по линии технологий – от виниловых пластинок до голосовых помощников с искусственным интеллектом. Однако определение границ предполагает биографическое понимание времени, которое относится как к жизненному пути людей или объектов, так и к нарративам, которые делают его мыслимым и понятным (Lesage, Natale, 2019). Это в свою очередь подводит к рефлексии конвергенции практик традиционных и новых медиа.
Новые медиа существенно меняют конвенции о контроле, границах, автономии и выборе (Plesner, Gulbrandsen, 2015), более того, эти конвенции определяют порядки и режимы действий пользователей и то, как они конструируют старые и новые медиа в перспективе жизненных миров и идеологий СМИ (Menke, Schwarzenegger, 2020).
Наряду с традиционными производителями цифрового контента все большую активность развивают просьюмеры (Ritzer, Jurgenson, 2010) – одновременно и создающие, и потребляющие медиапродукт в пространстве Web2.0, что обеспечивает экономическую доступность цифрового контента, а также относительную свободу от цензуры.
Особую роль в потреблении медиапродукта играют эмоции, прежде всего удовольствие (Kerr et. al., 2006); а также азарт, имеющий тенденцию к аддиктивным формам проявления, и ненависть, переходящая в хейтерство и кибербуллинг. Эти эмоциональные аспекты еще не в полной мере исследованы академической наукой, равно как и телесная составляющая потребительской активности (позы, мимика, движения, жесты).
По мысли М. Хансена, человеческое тело – это посредник, медиум; поверхность экрана становится рекурсивной соматике и кинестетике пользовательского действия, осуществляя переход от окуляроцентризма к «гаптической эстетике» / телесной аффективности (Hansen, 2004).
Отметим тенденцию сближения цифровой реальности с ускользающей повседневностью реальной жизни. В академической среде обсуждаются проблемы эфемерных контентов, которые существуют 24 часа (Bainotti et. al., 2020). Помимо методологической направленности, такие работы фиксируют противоречие между эфемерным содержанием и архивными культурами, эпистемологические и этические аспекты сбора, анализа и архивирования эфемерного содержания.
Производство медиадискурсов: методологическая разметка . Дискурс как способ го-ворения/рассуждения определяет способ репрезентации реальности и конструирования социальных смыслов. Дискурс несет в себе доминанты политических, экономических и иных социальных практик, поддерживая отношения производства и активно генерируя социальные смыслы (Родина, 2018: 106).
Медиадискурс включает производство когнитивных конструктов (знания, образы, оценочные категории) и способы их трансляции. Для нас важно подчеркнуть, что медиадискурс, равно как и другие дискурсы, раскрывается как особая практика упорядочивания реальности, как механизм, формирующий картину мира и концептуальные границы (Кожемякин, 2010). Таким образом, в дискурсе заложена власть, определяющая иерархию и границы социальных объектов, процессов, явлений, и наделяющая статусом истинного (ложного) и нормативного (аномального) все, что происходит в социальных системах. Вместе с тем соотношение разных дискурсов и их властная сила, способность доминировать над другими меняются в ходе социально-исторических про-цессов1. Понимание властной природы дискурса определило выбор критического дискурс-ана-лиза как ведущего инструмента исследования.
Критический дискурс-анализ позволяет деконструировать социальные проблемы, представляя лингвистические основания социокультурных процессов и систем. Это дает возможность ответить на вопросы: как власть существует в дискурсе и как конструируется власть над дискурсом. Понимание исторической природы дискурсов обусловило необходимость анализа дискурсивных практик в перспективе социальной динамики.
Авторская схема анализа медиадискурса основана на методологических подходах и методических идеях Н. Фэрклоу2 и С. Тичера, М. Мейера, Р. Водака, Е. Веттера (2009), Н. Веселковой, М. Вандышева, Е. Прямиковой (2016). Она подробно описана в предыдущих публикациях (Черняева и др., 2021).
Дискурсивное оформление династий в форматах новых медиа . Исследуя представленность профессиональных династий в традиционных СМИ – центральных газетных изданиях – с 60-х годов прошлого века вплоть до настоящего времени, мы показали, что тематика семейной преемственности профессиональной деятельности никогда не составляла стержневую линию медиадискурса, занимая более скромное положение. Дискурсы медийных репрезентаций профессиональных групп и династий отражали текущие социальные процессы и трансформации, задавали смысловые ориентиры и схемы интерпретаций реальности. В пространстве новых медиа династии репрезентируются в разных форматах и жанровых границах, в определенной степени отвечая на социальный запрос.
Спецпроект компании «Grant’s Whisky» и телеканала «Дождь» ( 2011 )
Международный проект «True Tales. Профессиональные династии» был в инициативном порядке реализован семейной компанией «Grant’s Whisky», которая на протяжении многих поколений производит виски, и телеканалом «Дождь». Слоган проекта – «Непридуманные истории. Каждому есть, что рассказать». Медиапродукт – короткий рассказ представителя династии, переданный в формате видеоистории и сопровождаемый короткими текстовыми биографическими справками о самом герое и его предках, их достижениях, местах жизни и работы. Примечательно, что нарративы и дискурсивные линии героев подаются как спонтанные, неотрежиссированные речевые события, что создает атмосферу доверия к говорящему.
В рамках проекта было выпущено 10 видеоисторий представителей профессиональных династий: два сюжета про архитекторов (Е. Асс, Ф. Буйнов), один сюжет про актеров (А. Терехова), два сюжета про модельеров (Е. Зайцев, М. Цигаль), один про геологов (А. Мазарович), один про педагогов (А. Беспалова), один про спортсменов (Р. Лебедев), один про бухгалтеров (Л. Шубина) и один про режиссеров (Е. Кончаловский). Ролики имеют продолжительность от 2.08 до 3.11 минут. Пять роликов были названы однотипно: первая часть обозначает бренд, вторая – проект («Профессиональные династии»), третья – профессию. В названиях других роликов были указаны не профессии, а персоналии: Е. Кончаловский, А. Терехова, М. Цигаль, Е. Асс, Е. Зайцев.
Дискурсивная направленность повествований определена инициаторами проекта. Очевидно, он является частью коммуникационной политики и решает задачи продвижения ценностей династии, равно как и формирование на международных рынках социальной составляющей бренда и репутационного капитала компании. Неизвестно, сколько вообще было записано историй, но отобранные десять раскрывают общественную и личную значимость семейно-профессиональных связей – это и выступает доминирующим дискурсом проекта. Понятийная структура его включает в основном указания на родственные отношения: мать/мама, отец/папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, двоюродная сестра, семья, семейственность. Рассмотрим частные дискурсы и оппозиции предикативных элементов, которые определяют их своеобразие.
-
1. Все герои подчеркивают раннее вовлечение в профессиональную деятельность; то, что они с ранних лет были погружены в профессиональную среду: «Знаете, я не помню, если честно, как я первый раз попал на съёмки, потому что был очень маленький…»1.
-
2. С самого раннего детства большая часть представителей династий понимали естественность своего профессионального призвания. В этом плане базовая оппозиция предикативных элементов дискурса выступает как «естественное вхождение в профессию vs рациональный выбор»: «Это судьба. Архитектором быть я не решал. Я просто родился архитектором, и так оно как-то само собой получилось... если бы я был кем-то другим – вот это было бы решение»4; «Мой путь в профессию архитектора складывался не столь типично, наверное, на мой взгляд, как обычно…. Люди обычно раньше приходят в профессию. У меня получилось, что только в 16–17 лет я подумал, почему бы не попробовать архитектуру, так как отец занимался ей всю жизнь…»5.
-
3. Большинство героев включают в повествование эмоционально насыщенные истории, которые рассказывали дедушки и бабушки (А. Терехова, А. Беспалова, Р. Лебедев), ситуации из детства, в определенной степени повлиявшие на желание продолжить династию и заложившие ценностные ориентиры профессии: «Вспоминаю один момент из своего детства, когда мы всей семьей пришли на соревнования, в которых выступал мой отец. Был эстафетный забег. Его команда отставала. И вот он взял эстафетную палочку и обогнал всех спортсменов. И буквально
-
4. В нарративах звучат мотивы социального признания в контексте продолжения династии: «Я впервые наблюдал за тем, каким авторитетом на этом объекте пользуется мой отец. Позже я был на открытии этого здания. На торжественное открытие приходили люди, выражали свою благодарность моему отцу за то, что вот у них во дворе под окнами появилось такое здание, которое выгодно отличалась от всего, что окружало»2.
-
5. Отметим, что довольно часто в рассказах фигурируют вещи: «Больше всего на свете я любила счёты, ещё довольно большие, деревянные. Я на них училась считать»3.
При этом речь идет не только об опыте наблюдения, но и об опыте деятельности: «Я очень много времени проводила со своими бабушкой и дедушкой на даче в Тарусе, и само проживание в этом месте настраивает, безусловно, на достаточно творческий лад. Дедушка постоянно писал картины прямо в саду, у нас всегда там стояло огромное количество натюрмортов. И мама, и дедушка периодически выходили на пленэр, соответственно, чтобы я не сидела одна на даче, меня тоже [брали с собой]. Я ходила и что-то там как-то зарисовывала»2; «Есть такая семейная легенда, что в каком-то возрасте четырех лет я слепил из пластилина какую-то штуковину, которая очень понравилась Рудневу. Тогда они проектировали университет на Ленинских горах, и как будто бы даже эта козявка, слепленная мною, послужила прототипом для башни Московского университета. Сомнительная легенда, но мне нравится»3.
В нарративе потомственного геолога А. Мазаровича звучит мысль о сложной и небогатой жизни геолога и о некоторых колебаниях в выборе профессии. На решение стать геологом повлияло трудоустройство отца в международную нефтяную компанию с хорошим финансовым вознаграждением6. В этом сюжете просматриваются некоторые аспекты профессионального выбора: финансовая состоятельность и условия работы. По сути, это раскрывает оппозицию «достаток / материальные условия vs призвание/служение».
Линия призвания дискурсивно оформлена в истории учительницы А. Беспаловой: «Я работаю учителем. И сейчас мне кажется это естественным чем-то. Но когда надо было определяться с профессией, я маме сказала, что хочу работать в школе, что пойду в педагогический университет. Мягко говоря, мама была шокирована. Она категорически была против, чтобы я работала в школе, наверное, потому что это кажется чем-то непрестижным. Я верю в призвание – то есть, мне очень нравится идея вообще, [что] человек передает свой жизненный опыт, свои знания»7.
Эта история раскрывает еще одну дискурсивную оппозицию в формировании династийно-сти: «одобрение vs неодобрение родителей/родственников»: «Надо сказать, как отец принял вообще все мои картины. Про первую картину он сказал: “Я очень расстроился”. Про вторую картину он сказал: “Да, конечно, кинематографистом ты стал, а художником – не очень”. Про третью – это был “Антикиллер-2” – он сказал: “Очень вредное кино” … Единственный член моей семьи, которому нравится, нравилось моё кино, был мой дед Сергей Владимирович Михалков. И он всегда во всех моих очень несовершенных кинокартинах находил что-то, что ему нравилось, и находил какое-то хорошее слово, чтобы мне сказать»8.
за несколько метров до финиша получил травму. Конечно же, все его обогнали. Но, несмотря на дикую боль, как потом оказалось, что нельзя было даже на ногу наступить, он все же доковылял до финиша. Это научило меня, что, как бы не было тяжело, нельзя сдаваться, никогда нельзя останавливаться»1.
Значение вещей / материальных объектов и их влияние на профессиональный выбор можно понять, используя подходы социологии вещей. Объекты вторгаются в повседневную жизнь, предопределяя социальные действия и практики4. В нашем случае – предметное, материальное обустройство повседневной жизни героев существует как предпосылка продолжения династии.
Рассказ о медиадискурсе проекта «True Tales. Профессиональные династии» был бы неполным без упоминания реакций медиапотребителей. Наибольшее число просмотров набрали видео с историями А. Тереховой (16607) и Е. Кончаловского (1359). Такой интерес обусловлен продуцируемой медийным пространством культурой звезд, которая позволяет расширить диапазон жизненных сценариев, войти в приватное (интимное) поле, конструировать собственную идентичность, сопоставляя себя со знаменитостью. Другие истории набрали от 219 до 694 просмотров, небольшое количество лайков и не получили ни одного комментария, что подтверждает периферийность профессиональных династий в общем потоке медиадискурса.
Отдельные форматы существования профессиональных династий в новых медиа
Школьные конкурсы. Во время пандемии, когда образование переместилось в цифровую среду, в ютубе появилось несколько конкурсных роликов, которые были выполнены школьниками и в которых они представляли свои семьи и свои династийные связи, рассказывая о профессии родителей и других родственников и о своем профессиональном выборе. Конкурсы, по всей вероятности, были инициированы школами, администрациями поселений, но сам этот факт свидетельствует о том, что школа становится институтом поддержки семей и семейных профессиональных ценностей. Этот проект как бы уходит в настоящий этап становления династий. Если проект «True Tales. Профессиональные династии» представляет рассказы людей, которые уже обрели свой профессиональный статус, то школьные проекты делаются детьми, подростками, которые ещё только находятся в процессе профессионального выбора. Некоторые работы сделаны как небольшие художественные или документальные фильмы, где используются фотографии и виды города, какие-то технические зарисовки, рисунки – мы видим полимодальную картину представления династий. Фотографии или видеозарисовки городской жизни символически показывают востребованность профессии в современных условиях. Доминирующий дискурс конкурсных работ сочетает линии преемственности и трансгенерационных коммуникаций (семейная история представляется родственниками разных поколений), репрезентацию социальной значимости трудовой деятельности (иногда – интервью с родственниками), признания, престижа5.
Конкурсы для творческих династий. В конце 2021 года Первый канал запустил проект «Две звезды. Отцы и дети», в котором состязаются семейные дуэты. Мама и сын, отец и дочь – известные артисты показывают, на что они способны, если они поют вместе. В проекте принимают участие Наталья Королева и Архип Глушко, Олег и Родион Газмановы, солист группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко и его дочь Алеся, Александр и Никита Малинины, Сергей и Лиза Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Александр Маршал и его сын Артем Миньков, Михаил и Эммануэль Турецкие, Таисия и Денис Повалий6.
Дискурсивно этот проект оформлен в тех же рамках, что и представленные выше. Однако соревновательный момент добавляет разнообразия. Сравниваются династии – результат выражается в итоговых оценках конкурса. Сравниваются поколения (отцы и дети): в комментариях ведущих и жюри часто звучат идеи достойного продолжения семейных традиций, восхищения тем, что представители старшего и младшего поколений выступают вместе. В комментариях же пользователей в 90 % сравнение делается не в пользу детей, а в пользу родителей. Есть комментарии с гневным осуждением организаторов этого конкурса: «Видится такая задача за всем этим конкурсом – протащить неталантливых, бесталанных детей».
Рубрики на сайтах организаций. В сентябре 2020 года Московский авиационный центр основал новую рубрику – профессиональные династии. В ней представлены профессиональные династии Новиковых и Орешниковых1. Интересен рассказ Орешникова-отца о дочери. Он подчеркивает, что брал ее на полеты, она прыгала с парашютом втайне от матери (дискурс династийных коалиций). В целом репрезентируется социальная значимость профессии и передача профессионализма от родителей к детям. Отметим, что, как и прежде, эти материалы получают немного лайков и совсем не комментируются пользователями, что вновь демонстрирует недостаточную популярность темы династий.
Проблемные видеолекции . Автор семи минилекций о династиях на Яндекс.Дзене не называет своего имени, но просмотр других его материалов позволяет предположить, что, закончив Ленинградский педагогический институт еще в советские времена, он до сих пор работает учителем в школе в Ленинградской области. Автор поднимает вопросы о значимости династий, о причинах их угасания, о том, что необходимо предпринять для сохранения поколенческой преемственности поколений, о династической стратегии государства2. Лектор изначально полагает, что тематика создания династий универсальна, интересует всех и чрезвычайно актуальна на данный исторический момент.
Форматы представления династий включают также репортажи, посвященные профессиональным праздникам (день энергетика, день газовика) и красным датам в деятельности отдельных организаций. Часто династии упоминаются в информационных сообщениях в связи с юбилеем или смертью их представителей.
Распределение профессиональной принадлежности династий в новых медиа очень похоже на то, что мы наблюдаем в традиционных СМИ в последние годы – чаще всего упоминаются арти-стические/творческие династии, популярными остаются династии врачей, педагогов, рабочих.
Заключение . Жизнь династий в новых медиа отражает сближение семейных историй с социальной ситуацией в стране и технологическими возможностями информационных систем. В отличие от традиционных медиа династии здесь репрезентируются полимодально, с активным подключением эмоционального компонента. Доминирующий дискурс включает общественную и личную значимость семейно-профессиональных связей, преемственность и естественность выбора профессионального пути, раннее вовлечение представителей династий в профессиональную деятельность, окружение вещами и предметами, обусловившими решение продолжить династию. Базовые оппозиции предикативных элементов дискурса выступают как естественное вхождение в профессию vs рациональный выбор; достаток / материальные условия vs призва-ние/служение; одобрение vs неодобрение родителей/родственников; династийность vs семейственность, неоправданное продвижение и использование социального капитала.
Следует заключить, что проведенная реконструкция социальных смыслов и способов представления династийности в пространстве новых медиа позволяет говорить о недостаточной популярности темы династий в современном обществе. Исключение составляют творческие семьи, профессия которых предполагает медийность, известность широкой публике, и в этом случае интерес к ним продуцируется в большей степени за счет внимания к конкретной личности из состава династии. Однако на мысли о расширении династийного дискурса в новых медиа наводит факт обращения к этой теме подрастающего поколения, в среде которого династийность может быть рассмотрена как профориентирующий фактор.
Список литературы Профессиональные династии в пространстве новых медиа
- Веселкова Н., Вандышев М., Прямикова Е. Дискурс природы в молодых городах // Социологическое обозрение. 2016. Т. 12, № 1. С. 112–133. https://doi.org/10.17323/1728-192X-2016-1-112-133
- Кожемякин Е.А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 12 (83). С. 13–21.
- Манович Л.З. Язык новых медиа. М., 2018. 400 с.
- Родина В.В. Дискурс: генезис, природа и содержание, обзор научных школ // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 1 (109). С. 101–111.
- Суворова А.Ю. Новые медиа: к вопросу о категориально-понятийном аппарате // Культура и цивилизация. 2017. Т. 7, № 4а. С. 735–745.
- Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Xарьков, 2009. 356 с.
- Черняева К.О., Черняева Т.И., Сорокина Н.В. Медийное конструирование российских профессиональных династий и профессиональных групп в эпоху перемен (1990–2002) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24, № 4. С. 162–195. https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.4.7
- Bainotti L., Caliandro A., Gandini A. From Archive Cultures to Ephemeral Content and Back: Studying Instagram Stories with Digital Methods // New Media & Society. 2020. Vol. 23, iss. 12. P. 3656–3676. https://doi.org/10.1177/1461444820960071
- Hansen M.B.N. New Philosophy for New Media. Cambridge, 2004. 361 p.
- Kerr A., Kücklich J., Brereton P. New Media – New Pleasures? // International Journal of Cultural Studies. 2006. Vol. 9, iss. 1. Р. 63–82. https://doi.org/10.1177/1367877906061165
- Lesage F., Natale S. Rethinking the Distinctions Between Old and New Media: Introduction // Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies. 2019. Vol. 25, iss. 4. P. 575–589. https://doi.org/10.1177/1354856519863364
- Menke M., Schwarzenegger C. On the Relativity of Old and New Media: A Lifeworld Perspective // Convergence: The Inter-national Journal of Research into New Media Technologies Vol. 25, iss. 4. P. 657–672. https://doi.org/10.1177/1354856519834480
- Plesner U., Gulbrandsen I.T. Strategy and New Media: A Research Agenda // Strategic Organization. 2015. Vol. 13, iss. 2. P. 153–162. https://doi.org/10.1177/1476127014567849
- Ritzer G., Jurgenson N. Production, Consumption, Prosumption: The nature of Capitalism in the Age of the Digital ‘Prosumer’ // Journal of Consumer Culture. 2010. Vol. 10, iss. 1. P. 13–36. https://doi.org/10.1177/1469540509354673