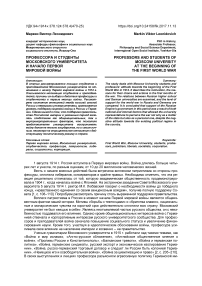Профессора и студенты Московского университета и начало Первой мировой войны
Автор: Маркин Виктор Леонидович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается позиция студентов и преподавателей Московского университета по отношению к началу Первой мировой войны в 1914 г. Описываются мотивация студентов и преподавателей, причины их выбора и действия профессуры и студенчества в первые месяцы войны. Рассмотрено состояние отношений между высшей школой России и немецкими университетами, сравнивается уровень поддержки мировой войны в России и Германии. Сделан вывод о том, что поддержка правительства Российской империи в указанный период являлась следствием как общенациональных, так и внутрикорпоративных факторов, что позволяло представителям университета воспринимать войну делом не только государства, но и своим личным, несмотря на отрицательное отношение к действующему политическому режиму в стране.
Первая мировая война, московский университет, студенчество, профессора, патриотизм, либералы, социалисты, корпорация
Короткий адрес: https://sciup.org/14941133
IDR: 14941133 | УДК: 94619149:378.124:378.4(470-25) | DOI: 10.24158/fik.2017.11.13
Текст научной статьи Профессора и студенты Московского университета и начало Первой мировой войны
Маркин Виктор Леонидович
-
1 августа 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Война длилась больше четырех лет и унесла, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов человеческих жизней.
Весть о начале военных действий была встречена всплеском патриотизма со стороны профессуры, сплотила либералов, консерваторов и крайне правых. Необходимо отметить, что эта реакция решительно отличалась от той, которую академическая общественность продемонстрировала в 1904 г., когда началась война с Японией. На экстренном заседании Совета Московского университета 5 августа 1914 г. ректор М.К. Любавский говорил о необходимости войны до победного конца, «нравственного единения со своим венценосным вождем», получив полную поддержку Совета [1, с. 108–110]. Попробуем рассмотреть причину столь выраженной поддержки правительства.
Всплеск патриотизма в России в момент начала Первой мировой войны является общеизвестным фактом нашей истории. Мотивы «борьбы с тевтонцами» и «братства славян», национальные и монархические чувства на короткий срок действительно сплотили всю страну. Московский университет не был «вещью в себе». Являясь неотъемлемой частью русского общества, он с неизбежностью поддавался его влиянию. Однако кроме общенациональных интересов война с Германией отвечала и корпоративным интересам русского университетского сообщества. Для профессоров и преподавателей война означала повышение социального статуса и увеличение финансирования науки. Кроме того, участвуя в идеологическом обосновании войны, профессура усиливала свое влияние на население империи и косвенно – на правительство.
Ученые-гуманитарии Московского университета в 1915 г. работали над такими темами, как «Война и мир ислама», «Англо-русское сближение», «Английское общественное мнение о войне», «Проливы России и Константинополь», «Балканские тревоги», «Война и германская политика», «Война, германские синдикаты, русский экспорт и экономическое изолирование Германии», «Война, русско-германский торговый договор и следует ли России быть колонией Германии», «Немецкое иго и освободительная война», «Война за цивилизацию и право» [2, с. 205–210]. В своих выступлениях и лекциях профессора разъясняли агрессивную политику Германской им- перии, говоря о ее враждебности к славянству со времени Средних веков. «В германской культуре прошлого и настоящего есть немало образцов этого высокомерного и вообще недолжного отношения к другим народностям и культурам», – говорил профессор всеобщей истории Е.Н. Трубецкой [3, с. 94]. Напластования реваншистских идей обнаруживались русскими историками и в немецкой историографии, и в географической литературе, показывая при этом, насколько захватнические прогнозы немецких географов и геополитиков (например, Ф. Ратцеля и К. Хаусхофера) реализовались в текущей войне [4].
Профессура считала проигрыш схватки с центральными державами предтечей революции [5, с. 80–82]. Это стимулировало работать на победу, с которой связывалась надежда на реформу государственного устройства. Профессура во время войны во многом согласовывала свою тактику с политической тактикой кадетской и октябристской партий (значительная часть их руководства была тесно связана с университетами – не зря кадетов называли «профессорской партией»). Эти партии еще в августе 1914 г. выдвинули тактику «внутреннего мира», предлагавшую отложить все внутриполитические споры до победы [6, с. 242]. Предполагалось, что война сплотит власть и общественность, устранит отчуждение между ними.
Необходимо отметить, что министр народного просвещения Л.А. Кассо, действия которого во многом и привели к конфликту профессорского сообщества и власти в 1911 г., в момент начала войны находился на лечении в Германии, был интернирован и вернулся в Россию только в конце 1914 г., будучи безнадежно больным человеком. Он скончался 9 декабря 1914 г. На его место 9 января 1915 г. был назначен бывший товарищ главноуправляющего земледелием и землеустройством П.Н. Игнатьев (сын известного русского дипломата). Новый министр народного просвещения придерживался либеральных взглядов и был довольно популярен в общественных и интеллектуальных кругах. Это, несомненно, ослабило напряженность между профессурой и государственной властью.
Осенью 1914 г. антивоенные настроения не пользовались популярностью и среди студентов Московского университета. Патриотический подъем в стране был настолько велик, что 9 октября состоялась уникальная для русских университетов начала ХХ в. сходка студенчества, поддержавшая действия правительства. Студенты выступили с речами в поддержку войны с Германией, а после этого начали шествие с портретами царя к дому московского градоначальника. Попытка группы студентов юридического факультета устроить в знак протеста свою антивоенную сходку была пресечена администрацией и студентами университета, на сей раз обошлось даже без вмешательства полиции [7, т. 1, с. 546]. И это были студенты вуза, служившего последние 20 лет причиной постоянной головной боли Министерства народного просвещения; вуза, который долгое время считался оплотом либеральных и левых политических групп. Как это стало возможно?
Необходимо учесть, что годы, предшествовавшие Первой мировой войне, характеризовались усилением шовинизма и русофобии в германском обществе. Эта кампания коснулась и студентов из России. Финалом ее был в 1913 г. приказ министра просвещения Германии о запрете зачисления русских студентов в германские университеты. В качестве причин называли низкий моральный и культурный уровень и (с характерной для национального характера прямотой) опасение конкуренции с немецкими специалистами в будущем [8, с. 116].
Таким образом, русским студентам и ученым еще до войны давали понять, что они – конкуренты и враги Германии. Это не прибавило обаяния германской высшей школе и порождало ответную неприязнь. Вместе с тем нельзя не отметить, что уровень и содержание выступлений российского студенчества и профессуры были несравнимы с той степенью милитаризма и шовинизма, которые в начале войны были характерны для высшей школы Германии.
-
8 октября 1914 г. был обнародован указ Николая II о призыве студентов в армию в целях замещения офицерских должностей. Согласно действовавшему военному законодательству, на военную службу призывались лица не моложе 21 года. Студент, пришедший в университет с гимназической скамьи в возрасте 18 лет, первые два курса не мог быть призван на войну. В то же время студенты третьего и старших курсов с началом войны получали отсрочку от призыва. Таким образом, в 1914 г. на фронт могли идти либо добровольцы, либо великовозрастные студенты младших курсов [9, с. 13]. К январю 1915 г. число студентов в Московском университете по сравнению с сентябрем 1914 г. сократилось на 763 человека, или на 8 %. Хотя количество добровольцев можно признать довольно значительным, эти цифры не позволяют говорить о резком уменьшении численности студенчества университета в связи с войной.
Напротив, уже в сентябре 1915 г. количество студентов Московского университета увеличилось по сравнению с январем с 9 129 до 11 637 человек. В том числе на историко-филологическом факультете обучалось около 1 100 студентов, юридическом – 4 400, медицинском – 2 600 и на физико-математическом – 3 500 студентов [10, с. 178–180]. Увеличение численности студентов произошло во многом из-за того, что в Москве появилось большое количество эвакуированных из западных областей Российской империи, оставленных в ходе отступления 1915 г.
Количество студентов в Московском университете уменьшилось только в 1916 г. Если к 1 января 1916 г. в университете обучалось 11 184 студента, то в ноябре того же года – уже 8 129. К началу весеннего семестра 1917 г. в Московском университете осталось только 6 883 студента, или примерно половина по сравнению с осенью 1915 г. [11, с. 372–375].
Данная ситуация является зеркальным отображением положения дел в Германии. С началом войны немецкие студенты в массовом порядке устремились добровольцами на фронт. Из них был сформирован отдельный 26-й добровольческий резервный корпус, причем полки, бригады и дивизии этого соединения специально комплектовались из учащихся одних и тех же высших учебных заведений. Корпус, состоявший из 18–19-летних юношей, прошедших месячную военную подготовку, был введен в бой в самый разгар наступления немецких войск во Фландрии и был уничтожен в конце октября 1914 г., безуспешно пытаясь прорвать британскую оборону у города Ипра. Погибло около 25 000 студентов-добровольцев. Сами немецкие историки дали этому эпизоду весьма красноречивое название – «Kindermorde von Ipern» («Избиение младенцев под Ипром») [12, p. 67].
Если значительная часть профессоров и преподавателей Московского университета к 1914 г. разделяли либеральные воззрения, то политически активное студенчество находилось под влиянием социалистов. Партия социалистов-революционеров в августе 1914 г. в Швейцарии на «Заграничном совещании центральных работников» приняла доктрину «революционного оборончества», призвав своих членов поддержать Россию (но не царское правительство) в ее войне. Партия социалистов-революционеров по-прежнему рассматривала студенчество как «надклассовую категорию», как часть интеллигенции, которая представляет собой выходцев из народа.
Однако разногласия между отдельными группами внутри партии (которая никогда не отличалась внутренней монолитностью) и эффективная работа полиции привели к распаду организационной структуры эсеровских организаций. Поэтому в Московском университете студенты, разделяющие эсеровские лозунги, в период войны выступали единым блоком с либеральным, «академическим» студенчеством [13, с. 198].
Меньшевики по вопросу о войне разделились от ее поддержки, «революционного оборончества» и «мира без аннексий и контрибуций» до последовательно интернационалистских позиций. В среде студенчества Московского университета они в период войны так и не создали самостоятельную организацию, блокируясь с другими революционными группами.
Большевики единственные из политических партий России в тот момент выдвинули лозунг «превращения войны империалистической в войну гражданскую», считая, что поражение своей страны ускорит революцию в ней. Но как раз эта позиция по отношению к войне привела к снижению их популярности в условиях патриотического подъема 1914 – начала 1915 г. Еще летом 1914 г. полиция разгромила Московский комитет РСДРП [14, с. 254–258].
Таким образом, с началом Первой мировой войны преподаватели и студенты Московского университета в большинстве своем выступили на стороне правительства и активно участвовали в мероприятиях патриотического характера. Это являлось следствием как общенациональных, так и внутрикорпоративных факторов, что позволяло воспринимать войну делом не только правительства, но и своим личным. Кардинально изменился характер повседневной деятельности преподавателей, которая утратила чисто академическую направленность и тесно сомкнулась с повседневными оборонными, социально-экономическими и идеологическими нуждами воюющего государства.
Ссылки:
-
1. Иванов А.Е. Российское «ученое сословие» в годы «Второй Отечественной войны» (Очерк гражданской психологии и патриотической деятельности) // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 2. С. 108–127.
-
2. Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1915 г. М., 1916.
-
3. Трубецкой Е.Н. Война и мировая задача России // Русская мысль. 1914. № 12. С. 88–96.
-
4. Анучин Д.Н. Предположение и действительность // Русские ведомости. 1914. 10 сент. ; Бузескул В.П. Современная Германия и немецкая историческая наука. Идеология реваншизма // Русская мысль. 1915. № 2.
-
5. Гримм Э.Д. Пьяные илоты. Немецкие бесчинства и европейская культура // Русская мысль. 1914. № 8–9.
-
6. Ежегодник газеты «Речь» на 1915 г. Пг., 1915.
-
7. История Московского университета : в 2 т. / отв. ред. М.Н. Тихомиров. Т. 1. М., 1955.
-
8. Иванов А.Е. Указ. соч. С. 116.
-
9. Малинко В., Голосов В. Справочная книжка для офицеров. Ч. I. М., 1902.
-
10. Ермолаев Ю.Н. Ректор Московского университета М.К. Любавский // Академик М.К. Любавский и Московский университет / ред. А.Я. Дегтярев, А.В. Сидоров. М., 2005.
-
11. История Московского университета. С. 372–375.
-
12. Keegan J. The First World War. L., 1998. 475 p.
-
13. Политические партии России: история и современность. М., 2000. 631 с.
-
14. Там же. С. 254–258.
Список литературы Профессора и студенты Московского университета и начало Первой мировой войны
- Иванов А.Е. Российское «ученое сословие» в годы «Второй Отечественной войны» (Очерк гражданской психологии и патриотической деятельности)//Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 2. С. 108-127.
- Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1915 г. М., 1916.
- Трубецкой Е.Н. Война и мировая задача России//Русская мысль. 1914. № 12. С. 88-96.
- Анучин Д.Н. Предположение и действительность//Русские ведомости. 1914. 10 сент.
- Бузескул В.П. Современная Германия и немецкая историческая наука. Идеология реваншизма//Русская мысль. 1915. № 2.
- Гримм Э.Д. Пьяные илоты. Немецкие бесчинства и европейская культура//Русская мысль. 1914. № 8-9.
- Ежегодник газеты «Речь» на 1915 г. Пг., 1915.
- История Московского университета: в 2 т./отв. ред. М.Н. Тихомиров. Т. 1. М., 1955.
- Малинко В., Голосов В. Справочная книжка для офицеров. Ч. I. М., 1902.
- Ермолаев Ю.Н. Ректор Московского университета М.К. Любавский//Академик М.К. Любавский и Московский университет/ред. А.Я. Дегтярев, А.В. Сидоров. М., 2005.
- История Московского университета. С. 372-375.
- Keegan J. The First World War. L., 1998. 475 p.
- Политические партии России: история и современность. М., 2000. 631 с.