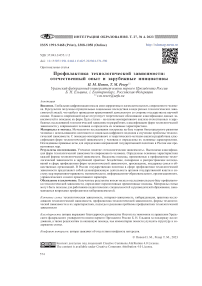Профилактика технологической зависимости: отечественный опыт и зарубежные инициативы
Автор: Попов П.М., Резер Т.М.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Международный опыт интеграции образования
Статья в выпуске: 4 (113), 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение. Глобальная цифровизация внесла свои коррективы в жизнедеятельность современного человека. В результате получены отрицательные социальные последствия в виде разных технологических зависимостей людей, что требует проведения превентивной деятельности со стороны государства на научной основе. Однако в современной науке отсутствует теоретическое обоснование классификации данных зависимостей и описание их форм. Цель статьи - на основе компаративного анализа отечественных и зарубежных исследований технологической зависимости разработать классификацию форм технологической зависимости у современного человека и определить их основные характеристики.
Технологическая зависимость, интернет-зависимость, кибераддикция, практика исследования технологической зависимости, профилактика технологической зависимости, формы технологической зависимости и их характеристики, подходы к решению проблемы профилактики технологической зависимости
Короткий адрес: https://sciup.org/147242372
IDR: 147242372 | УДК: 37.043.2-055.1/.2 | DOI: 10.15507/1991-9468.113.027.202304.574-590
Текст научной статьи Профилактика технологической зависимости: отечественный опыт и зарубежные инициативы
Оригинальная статья
Последние десятилетия истории человечества характеризуются цифровым бумом, сопровождающимся стремительным увеличением, а также тотальным распространением информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет практически во все сферы занятости населения. Цифровая революция в значительной степени изменила все области жизнедеятельности современного человека и открыла большие перспективы технологическому развитию современной цивилизации, а также становлению в ней человека как виртуального субъекта деятельности.
В настоящее время в условиях глобальной цифровизации без труда можно обработать колоссальное количество данных, быстро войти в сетевые коммуникации, совершить там покупки, а также осуществить учебную, трудовую и досуговую деятельность, даже не выходя из дома. Однако любые процессы имеют причинно-следственные связи. Поэтому, на наш взгляд, следует обратить пристальное внимание на появление новых технологических зависимостей, возникших в последнее время у современного человека благодаря его «обитанию» в новой для него виртуальной среде, основанной на цифровых ресурсах и технологиях.
Актуальность исследования профилактики технологической зависимости у молодых людей обусловлена также следующим обстоятельством, согласно которому идеологические посылы представителей глобальной и либеральной экономики при переходе к VI технологическому укладу (Industry 4.0) определяют, что в лидеры выйдет страна, обладающая технологией нейминга. Технология нейминга позволяет управлять этикой, а вместе с ней и поведением малых и больших групп людей на любой цифровой платформе и в любой стране мира. Нейминг сосредотачивает свое внимание не только на том, что есть в слове, но и на том, чего в нем нет.
Таким образом, в современных политических и идеологических условиях изучение разных негативных последствий тотальной цифровизации жизнедеятельности человека, а особенно исследование форм и видов технологической зависимости представляется, на наш взгляд, своевременным и важным процессом. Одной из самых распространенных форм негативных последствий внедрения информационных девайсов и сети Интернет в жизнеобеспечение человеческой деятельности стала технологическая зависимость, проявляющаяся в патологическом пристрастии человека к техническим устройствам и сети Интернет. Этот процесс сопровождается погружением человека в иммерсионную реальность существования, т. е. погружение в им же искусственно созданную виртуальную среду, а также расцениваемую человеком как новое благо технического и технологического прогресса.
Обращает на себя внимание тот факт, что развитию форм технологической зависимости подвержены люди различных половозрастных категорий. Однако наиболее уязвимой социальной группой являются дети и молодежь, ежедневно подвергающиеся мощнейшей атаке всеми видами цифровых ресурсов. Специфические психологические и возрастные особенности детей и молодых людей выступают детерминантой широкого распространения информационных технологий в молодежной среде. Именно дети и молодые люди являются самой многочисленной группой пользователей информационных девайсов и сети Интернет, что в результате в наибольшей степени приводит к формированию технологической зависимости уже в раннем возрасте.
В настоящее время ни в отечественной, ни в зарубежной науке не разработана классификация профилактики технологической зависимости и не определены основные характеристики ее форм.
Цель статьи заключается в проведении анализа исследований технологической зависимости в России и за рубежом, а также в разработке классификации форм данной зависимости у современного человека и определении их основных характеристик.
Для реализации поставленной цели требовалось решить следующие задачи:
-
- проанализировать научные источники, посвященные теоретическим и практическим аспектам профилактики технологической зависимости у человека в современных социально-экономических условиях и уточнить понятие «технологическая зависимость»;
-
- предложить классификацию форм технологической зависимости у человека;
-
- определить основные характеристики форм технологической зависимости;
-
- проанализировать виды профилактической деятельности, используемые в настоящее время;
-
- изучить основные подходы, применяемые к профилактике технологической зависимости у человека, и направления государственной политики в этой сфере.
Обзор литературы
Вопрос профилактики технологической зависимости у молодых людей волнует ученых и государственных деятелей многих стран. Необходимость использования государственного подхода в решении вопросов в этом направлении объясняется в первую очередь патологическим влиянием технологической зависимости на состояние психического здоровья молодежи и снижение способности молодых людей к дальнейшей самореализации в профессиональной и социальной сферах в качестве работника, гражданина и родителя, что необходимо в государственном строительстве и его развитии.
Согласно метаанализу, проведенному бельгийскими и перуанскими учеными, 95 % населения Европы в возрасте от 16 до 29 лет ежедневно посещают сеть Интернет. Авторы указывают, что количество киберзависимых в европейских странах, Китае, Южной Корее и США варьируется от 1 до 26 % исследуемой возрастной группы населения [1]. Почти такие же количественные данные в сфере распространения технологической зависимости среди молодой части населения получены М. А. Трувалой и соавторами. Они описывают изменчивость показателя распространенности форм технологической зависимости от расположения страны на континенте (от 0,8 % в Италии и до 26,7 % в Китае) [2].
В своем исследовании A. M. Куа с коллегами отмечают, что кибераддикция выявлена у 11,08 % африканских студентов Университета Алассана Уаттары в Буаке в возрасте от 16 до 29 лет [3].
Так, в 2018 г. Ю. Асеева, О. Друзь, Г. Кожина, И. Черненко по инициативе
Национальной академии юридических наук Украины проанализировали результаты исследования определения уровня технологической зависимости у подростков: киберзависимость наблюдается у 14–16 % украинских подростков [4].
Компаративный анализ научных и практических источников показал, что лидирующие позиции по степени распространения технологической зависимости занимают страны Азиатстко-Тихоокеанского региона. По нашему мнению, это объясняется высоким уровнем развития цифровых ресурсов и технологий в данном регионе. Дж. Чун, Х. Шим, С. Ким в своих исследованиях установили, что распространенность ин-тернет-зависимости среди корейских подростков неуклонно возрастает ‒ от 10,4 % в 2011 г. до 12,5 % в 2014 г. [5]. В странах Азиатстко-Тихоокеанского региона уровень технологической зависимости в 2021 г. составил порядка 26 %, т. е. почти треть молодых людей этого региона имеют ту или иную форму технологической зависимости [1; 2; 6].
Например, Д. Дж. Кусс, А. М. Кристенсен, О. Лопес-Фернандес еще в 2021 г. констатировали, что в странах Восточной Азии (Япония, Корея, Тайвань и др.) распространение технологической зависимости среди молодых людей лежит в диапазоне от 12,6 до 67,5 %, что требует государственного вмешательства в управление данным процессом [7]. Поэтому полностью согласимся с утверждением, что уровень технологической зависимости населения напрямую коррелирует с уровнем цифровой национальной безопасности страны в целом.
Отечественная практика также характеризуется стремительным внедрением информационно-коммуникационных технологий почти во все сферы жизнедеятельности человека. По данным Росстата, в России в 2019 г. 7 чел. из 10 ежедневно посещали сеть Интернет1. Согласно сообщению вице-премьера правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко, количество интернет-пользователей в России в 2022 г.
составило около 130 млн чел., что соответствует 90 % населения страны2.
Как зарубежные (М. А. Трувала, М. Д. Гриффитс, M. Реннолдсон и др.), так и большинство отечественных (Л. С. Эверт, С. Ю. Терещенко, О. И. Зайцева, Н. Б. Семенова, М. В. Шубина и др.) исследователей в этой сфере указывают на следующее обстоятельство: распространение цифровизации сопровождается резким увеличением количества пользователей различных технологических девайсов и ресурсов сети Интернет, что невозможно урегулировать без нормативного обеспечения этого процесса [2; 8; 9].
Данное обстоятельство подтвердило наличие прямой корреляционной связи, обусловленной увеличением числа технологически зависимых среди активных пользователей: распространенность кибер-аддиктивного поведения у российских подростков варьируется от 4,2 до 12 %, а в ряде регионов России показатель технологической зависимости достигает 38 % [9; 10].
Например, Н. В. Кочетков указывает на границы распространенности форм технологической зависимости в регионах России от 4,3 до 22,8 % [11]. Подобные данные представлены также в трудах М. А. Южанина, подтверждающего, что в 2020 г. 22,6 % российских подростков страдали интер-нет-аддикцией [12].
В научной литературе феномен технологической зависимости чаще всего изучают в рамках нозологического, социального, психологического, когнитивно-бихевиорального и диалектического подходов. Однако проведенное нами ранее исследование позволяет сделать вывод о том, что технологическая зависимость является конституционально сложной полинаучной проблемой и может также рассматриваться в рамках аддиктологического, этологического и нормативно-правового подходов. Многообразие подходов к изучению данной проблемы порождает плюрализм научных мнений относительно терминологического аппарата, критериев и факторов формирования зависимости, что в свою очередь осложняет понимание проблемы. Отсутствие единой концепции изучения киберзависимого поведения не позволяет систематизировать накопленный опыт и задать вектор исследований в области профилактики форм технологической зависимости [13].
Таким образом, можно считать, что в условиях всеобщей цифровизации жизнедеятельности людей информационные технологии настолько широко проникли в повседневную реальность современного человека, что ему стало сложно определить четкие различия и характеристики между чрезмерным и функциональным использованием киберсреды [13]. Как показывает социальная практика, под агрессивное влияние цифровых ресурсов в большинстве случаев попадают дети и молодежь, что в будущем может стать серьезной проблемой общественного здравоохранения в плане сохранения психического и эмоционального здоровья. Поэтому особую актуальность в источниках разных областей науки приобрела проблема определения направлений профилактики технологической зависимости.
Материалы и методы
В методологии исследования исходили из основных положений теории биосоциального развития человека.
-
1. Человек – это существо биологическое и социальное одновременно.
-
2. Психические процессы, к которым относятся ощущение, восприятие, мышление и другие явления, имеют биологическую природу; они обусловлены наследственностью и природосообразностью человека.
-
3. Направленность, интересы и способности личности формируются как явления социальные в результате объективных и специально организованных воздействий на человека социальной среды, определяемой государством и проводимой в виде социальной политики на системной основе по направлениям деятельности.
К. Маркс подчеркивал, что определяющим в человеке является социальное. Согласно психосоматической теории Фрейда, возникновение культуры и человека обусловлено появлением культа, фундаментальные основания которого – тотем и табу. Б. Г. Ананьев указывает, что применение междисциплинарного и комплексного подходов позволяет рассматривать организацию психических явлений во взаимодействии разных сторон природы человека (его структуры, развития и деятельности)3.
Такие важные факторы жизнедеятельности человека, как сознание и речь не передаются людям в порядке биологической наследственности, а формируются у них прижизненно в процессе социализации, т. е. постоянно идет процесс усвоения индивидом общественно-исторического опыта предшествующих поколений. Человек с момента его рождения является индивидом и одновременно единичным природным существом, носителем индивидуально-своеобразных черт, что обуславливает его неповторимость.
В исследовании применялся системный подход, что позволяет изложить способ развития и функционирования любой системы, рассматриваемый в рамках задач объяснения интегративных свойств объекта, не являющегося результатом суммирования его частей и свойств. С позиции системного подхода исследована целенаправленная деятельность государства и принятая в России система мер в сфере профилактики технологической зависимости.
Также был использован социально-цифровой подход, позволивший проанализировать изменения социальных отношений и коммуникаций в условиях тотальной цифровизации и форм решения жизненных вопросов человека на основе использования цифровых данных в едином цифровом пространстве [14].
Настоящее исследование базировалось на действии принципа цифровой реальности, согласному которому человек, погружаясь в киберпространство, должен понимать, что это всего лишь цифровой инструмент современных информационно-коммуникационных технологий, а также новая функция взаимодействия человека.
Метод компаративного анализа позволил провести сравнительный анализ научных источников в сфере профилактики технологической зависимости в России и за рубежом и разработать классификацию.
Метод теоретического анализа использован при определении основных подходов, применяемых к профилактике технологической зависимости у человека и формулировании направлений государственной политики в этой сфере.
Базу исследования составили информационные зарубежные источники, доступные в цифровой среде, а также документы, касающиеся государственной политики, проводимой в России в сфере профилактики технологической зависимости.
Результаты исследования
Решение первой задачи исследования . Первые упоминания о возможности зависимости человека от технологических устройств были представлены еще в начале 1980-х гг. в трудах Дж. Сулера, М. Д. Гриффитса и других зарубежных авторов [15; 16]. Термин «технологическая аддикция» (зависимость) впервые предложил в 1995 г. М. Д. Гриффитс при описании причин такого пагубного явления на человека. Данное понятие послужило отправной точкой в определении технологической зависимости как новой формы аддиктивного поведения человека. Позднее данное расстройство более подробно описал И. Голдберг, выделив симптомы аддиктив-ного поведения4.
В 2000 г общественную огласку проблемы зависимости от технологических девайсов получила работа K. Янг, в которой было констатировано, что у большинства из 500 опрошенных, работающих с виртуальной средой, были обнаружены признаки аддиктивного поведения, требующие коррекции поведения5.
По мнению Д. Дж. Кусс и Х. М. Пон-теса, в широком смысле технологическая зависимость может быть определена как дисфункциональная модель поведения человека, включающая себя следующие элементы:
-
- патологическую тягу человека к использованию интернета и технологических девайсов в свою деятельность;
-
- демонстрацию поведения, сопровождающегося психологическими и физиологическими нарушениями в управлении собственной деятельностью;
-
- наличие у аддикта проблемы в восприятии сущностных сторон реального бытия и адекватном отражении бытия в его сознании [17].
Первоначально термин «технологическая аддикция» употреблялся в узком смысле слова, затем в процессе глобальной цифровизации жизни постепенно модифицировался. В настоящее время он имеет более широкий смысл и отражает разные аспекты кибераддиктивного поведения, к которым относятся азартные онлайн-игры, интернет-зависимость, кибераддикция, компьютерная, киберсексуальная, компьютерная игровая зависимость и др.
Перечисленные выше термины часто используются многими авторами как синонимичные понятия и вносят некоторую путаницу в понятийный аппарат в сфере профилактики технологической зависимости. Поэтому необходимо понимать, что такое терминологическое обилие без четкого разграничения дефиниций неминуемо приводит к терминологическим коллизиям, разночтению в понимании и неоднозначности в определении проблем киберад-диктивного поведения, обусловленного технологической зависимостью.
По мнению авторов, понятие «технологическая зависимость» нуждается в уточнении. На наш взгляд, технологическая зависимость – это комплексное понятие, выражающееся в дисфункциональной модели поведения человека, обусловленной патологической тягой человека к использованию интернета и технологических девайсов, что в результате приводит к дезориентации в управлении собственной деятельностью на основе снижения физического и психического здоровья личности и как следствие невозможности критически мыслить и объективно оценить существующую реальность.
Вторая задача исследования обусловлена разработкой классификации форм технологической зависимости у современного человека. В основу классификации были положены два основных признака – это причина, приводящая к технологической зависимости, и эмоциональная реакция человека на это патологическое явление. Авторы выделяют следующие формы технологической зависимости у человека в современных условиях повсеместной цифровизации жизнедеятельности: «цифровой аутизм», кибербуллинг, суицидальные группы в сети Интернет, «эмоциональная глухота», асоциальные типы поведения, цифровая мораль, когнитивные процессы.
Решение третьей задачи потребовало определения основных характеристик предложенных форм в классификации и последствий технологической зависимости, что представлено в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. Классификация форм технологической зависимости у человека и их основные характеристики
T a b l e 1. Classification of forms of technological addiction in humans and their main characteristics
Название форм технологической зависимости у человека / Name of the forms of technological addiction in humans
«Цифровой аутизм» / “Digital Autism”
Основные характеристики форм технологической зависимости / Main characteristics of forms of technological addiction
Окончание табл. 1 / End of table 1
Кибербуллинг / Cyberbullying
Киберпреступления / Cybercrimes
Суицидальные группы в сети Интернет / Suicidal groups on the Internet
Качество письменной речи / Quality of written speech
«Эмоциональная глухота» / «Emotional deafness»
Травля в цифровом пространстве, которая может проявляться в форме угроз, оскорблений и злых шуток в сообщениях или в комментариях при публикации личной информации. Согласно исследованию сервиса «ВКонтакте», с агрессией в социальных сетях сталкивались хотя бы раз около 60 % россиян6 / Harassment in the digital space, there may be insults, threats and malicious jokes in messages or in comments, publication of personal information. According to a study by the VK service, about 60% of Russians have faced aggression in social media at least once
Появление новых видов преступной деятельности с неправомерным использованием компьютера или сетевого устройства в целях денежного заработка. Киберпреступная деятельность осуществляется отдельными лицами или организациями / The emergence of new types of criminal activity with the misuse of a computer or network device in order to earn money from it. Cybercrime activity is carried out by individuals or organizations
Явление массовых подростковых самоповреждений и суицидов. Группы смерти и их кураторы. Сами «кураторы» – люди с глубокими психологическими травмами / The phenomenon of mass teenage self-harm and suicide. Death groups and their curators/mentors. The curators/mentors themselves are people with deep psychological traumas
Проявляется в резком ухудшении качества письменной речи, что демонстрирует снижение умения выражать свои мысли и переживания письменно / It is manifested as a sharp deterioration in the quality of written speech, which shows a decline in the ability to express oneʼs thoughts and experiences in writing
Проявляется в неспособности человека выражать свои переживания и распознавать чужие. Человек не понимает даже свои эмоции / The phenomenon manifests itself in the inability of a person to express his or her own experiences and recognize othersʼ. A person does not even understand his or her own emotions
Асоциальные типы поведения / Antisocial behaviors
Формирование асоциальных типов поведения, основанных на цифровой культуре, нерегулируемой социальными нормами поведения; происходит в цифровой среде, что существенно снижает ответственность человека за результаты своей деятельности / The formation of antisocial behaviors based on digital culture, unregulated by social norms of behavior occurs in a digital environment, which significantly reduces a personʼs responsibility for the results of their activities
Цифровая мораль / Digital morality
Это нормы, направленные на обеспечение уважения автономии и достоинства пользователей в сети Интернет. Пользователи вырабатывают агрессивную цифровую мораль на социальные нормы поведения / These are norms aimed at ensuring respect for the autonomy and dignity of users on the Internet. Users develop a new aggressive digital morality on social norms of behavior
Когнитивные процессы / Cognitive processes
Это активные процессы познания, обучения, коммуникации и обработка информации человеком. С помощью цифровых ресурсов происходит воздействие на сознание людей и управление их поведением / These are active processes of cognition, learning, communication and human information processing. Digital resources are used to influence peopleʼs minds and manage their behavior
Источник : составлено авторами. Source : Compiled by the authors.
С точки зрения концептуализации и клинических проявлений технологическая зависимость – сложное коморбидное расстройство здоровья человека, вызванное нетрадиционной природой аддиктивного агента, не имеющего в своей структуре химической составляющей [13]. В научном мире до сих пор нет общего мнения относительно не только терминологии, но и выработки критериев, оценивающих данное расстройство и эффективность проводимой профилактики технологической зависимости.
Технологическая зависимость, являясь нехимической формой поведенческой зависимости человека, включает следующие симптомы: салистичность, ютимию, толерантность, отказ, конфликт, абстиненцию, рецидив, проблемы в повседневной жизни и др. В то же время следует указать на некоторые сходства в клинических проявлениях технологической зависимости с зависимостью от приема психоактивных веществ. Проведенные зарубежными учеными исследования нейровизуализации технологической поведенческой зависимости человека обнаружили изменения в структуре и функциях мозга аддиктов, имеющие явное сходство с протеканием химических форм зависимости у человека [8; 18]. Однако технологическая зависимость имеет свои определенные особенности, которые нельзя не учитывать при ее выявлении, лечении, а также при определении видов профилактики и их законодательном оформлении.
Высокая степень распространенности и социальная значимость проблемы технологической зависимости послужили причиной включения данной зависимости от компьютерных игр в пятое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5) и Международную классификацию болезней одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) Всемирной организации здравоохранения [13]. Например, в DSM-5 определение интернет-игрового расстройства включает следующие критерии:
-
- патологическая озабоченность или одержимость интернет-играми;
-
- появление симптомов отмены при попытке сократить или остановить интер-нет-игры;
-
- увеличение количества времени, затрачиваемого на игру;
-
- неспособность контролировать потребность играть в компьютерные игры;
-
- утрата интереса к другим видам деятельности;
-
- чрезмерное использование компьютерных игр, несмотря на негативные последствия в реальной жизни;
-
- ложь другим в целях сокрытия использования компьютерных игр;
-
- использование компьютерных игр в целях снятия тревоги;
-
- потери в значительных сторонах бытия (отношения, работа, учеба, семья и др.) [19].
Следует подчеркнуть, что критерии, предложенные Всемирной организацией здравоохранения и DSM-5, постоянно критикуются в научной литературе и определяются как противоречивые. Данное обстоятельство подтверждается результатами исследований, проведенными Д. Л. Кингом и соавторами [20]. Например, М. Д. Гриффитс сообщает о существовании корреляции между временем нахождения в киберсреде и формированием зависимости, однако, по мнению автора, время, затраченное на онлайн-деятельность, не может являться хорошим критерием [21].
Поэтому при выявлении зависимости необходимо учитывать контекст и цель нахождения в сети. Тот факт, что многие из нас в современных условиях ежедневно проводят целые часы онлайн для рабочих целей, ясно демонстрирует, что цели использования сети Интернет, гораздо важнее, чем время, проведенное онлайн.
Четвертая задача исследования касалась анализа видов профилактической деятельности в России и за рубежом. Проведенное исследование показало, что присвоение феномену технологической зависимости статуса международной проблемы общественного здравоохранения повлекло за собой признание данной проблемы государствами – участниками международных медико-санитарных правил, в число которых входит 196 стран, в том числе и Россия [13]. Признание кибераддикции в качестве заболевания способствовало ее освещению в средствах массовой информации, активизации международных исследований и разработке превентивной государственной политики во многих странах мира. Распространение технологической зависимости привело к необходимости разработки и реализации государственных и локальных программ профилактики ки-бераддиктивного поведения.
Первыми в признании кибераддикции в качестве заболевания и реализации масштабной профилактической кампании были страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Вьетнам ввел жесткие ограничения для интернет-провайдеров, в результате чего вьетнамские геймеры не могут осуществлять игровую деятельность в период с 10 ч вечера до 8 ч утра [13].
В Китае открыты лагери принудительного лечения и реализована гонконгская программа позитивного обучения подростков посредством целенаправленных социальных программ – P.A.T.H.S. [13]. Данный проект представляет собой многолетнюю позитивную программу развития молодежи; он был инициирован благотворительным фондом Гонконгского жокейского клуба при участии пяти университетов Гонконга. В программе приняли участие более 200 тыс. молодых людей. Результаты показали ее эффективность в формировании целостного позитивного развития молодежи и снижении рискованного поведения китайских подростков.
В целях решения проблем, связанных с технологической зависимостью, в Корее создана сеть, включающая более 190 консультационных центров; подготовлено более 1 043 консультантов для оказания помощи проблемным пользователям; реализована программа Nighttime Shutdown, позволяющая закрывать доступ к интернет-контенту и снижать скорость интернета при длительной игре. Однако несмотря на растущий объем исследований, направленных на выявление детерминант и негативных последствий зависимости, Дж. Чун, Х. Шим и С. Ким указывают на недостаточность исследований в области эффективности реализуемых программ профилактики технологической зависимости в среднесрочной и долгосрочной перспективе [5].
В странах Европейского союза и США на протяжении длительного времени реализуются программы по профилактике технологической зависимости, направленные на воспитание медиаграмотности молодых людей и медиакомпетентности родителей и педагогов. Тем не менее Ф. Х. Райдинг и Л. К. Кайе в своих исследованиях отмечают существенное расхождение между уверенностью молодых людей в своей осведомленности относительно киберугроз и реальным уровнем информирования, недооценку частоты посещения сети Интернет, что приводит к очень рискованному поведению в киберсреде [22]. Данная тенденция в решении проблемы профилактики указывает на слабую релевантность самоотчетов испытуемых, необходимость использования поведенческих показателей и цифровых следов при определении зависимости.
В рамках противодействия распространения технологической зависимости в Европейском союзе сформирована Европейская сеть исследований проблемного использования интернета, объединяющая экспертов-исследователей. Создана Коалиция безопасности детей в виртуальном мире, в контексте которой ежегодно проводятся дни безопасного интернета более чем в 50 странах мира. С начала 2020 г. действует программа Европейского сотрудничества в области науки и техники, объединяющая ученых и клиницистов из разных областей в целях продвижения сетевых междисциплинарных исследований в Европе и за ее пределами.
Решение пятой задачи исследования было направлено на проведение анализа основных подходов, применяемых к профилактике технологической зависимости у человека, и направлений государственной политики в этой сфере. Результаты анализа зарубежной практики указывают на обобщенный характер применения превентивных подходов к профилактике различных типов технологической зависимости, что накладывает определенный отпечаток, поскольку различные формы киберзависимости имеют свои специфические особенности. Предложена унитарная концепция, согласно которой все люди одинаковы с проблемами и доступностью, независимо от конкретной виртуальной платформы или контекста. Унификация подходов к определению технологической зависимости позволяет количественно повысить результативность и охват превентивных мер. В пользу комплексной профилактики выступают Д. Финкельхор, К. Уолш, Л. Джонс, К. Митчелл, А. Коллиер [23], аргументируя ее полезность тесной взаимосвязью, схожими симптомами и факторами развития, нозологическими проявлениями и офлайн-рисками формирования аддиктивного поведения [13]. Однако необходимо понимать, что при таком подходе в ряде случаев могут не учитываться специфические особенности той или иной формы технологической зависимости.
Наиболее часто встречающимися в зарубежной научной литературе подходами к профилактике аддиктивных паттернов поведения являются дефинициальные рамочные программы Дж. Каплана и Р. Гордона. Так, программа Дж. Каплана включает в себя первичную профилактику, направленную на предотвращение возникновения заболевания; вторичную профилактику – на снижение заболеваемости; третичную профилактику – на уменьшение воздействия проблем со здоровьем.
Рамочная программа Р. Гордона включает три уровня: универсальный – ориентирован на широкую популяцию (первичная профилактика, охватывающая различные группы населения); селективный – на определенные группы населения (дети, подростки, молодежь и др.); локальный – на группы риска или уязвимых лиц [2].
В целях предотвращения и коррекции последствий технологической зависимости в зарубежной практике широко применяются методы групповой и индивидуальной психологической, психофармакологической, комбинированной, когнитивно-поведенческой терапии и др. [13]. Важные результаты получены в исследовании С. Ягер и коллег, использующих методы когнитивно-поведенческой терапии с применением когнитивно-поведенческих программ лечения STICA [24], объединяющих как индивидуальные, так и групповые превентивные меры профилактики технологической зависимости [13].
Проведенный компаративный анализ данной практики позволяет сделать вывод, что в большинстве указанных профилактических программ рассматриваются клинические образцы, т. е. речь идет о лечении, а не о профилактике. Поэтому следует отметить более продолжительную по времени и материальную емкость лечения уже сформировавшегося заболевания, по сравнению с его своевременной профилактикой.
О. Лопес-Фернандес, Д. Дж. Кусс подчеркивают высокий уровень продуктивности программ профилактики ки-бераддиктивных паттернов поведения, реализуемых в образовательных учреждениях [25]. В связи с чем в современной научной литературе активно обсуждаются вопросы эффективности школьных профилактических программ, роль, компетентность преподавателей, а также готовность участников образовательного процесса к профилактике технологической зависимости.
Обзор превентивных программ предупреждения технологической зависимости, реализуемых в странах Европы, позволил авторам сделать вывод о применении четырех основных вариантов подходов, используемых к предупреждению технологической зависимости (табл. 2).
На территории Российской Федерации превентивная работа ведется на государственном и локальном уровнях публичного управления. Отечественными учеными (Г. И. Гайсина, В. Г. Закирова) также разрабатываются и реализуются программы и технологии профилактики различных форм технологической зависимости – интернет-зависимость, зависимость от компьютерных игр, кибераддикция и др. [26]. Однако они как правило носят локальный разрозненный характер, не имеют широкого распространения и не выходят за рамки отдельно взятых исследований [27].
Государственный уровень превентивной работы в сфере профилактики распространения форм технологической зависимости в молодежной среде на территории России имеет следующие направления:
-
- целенаправленная деятельность органов государственной власти, включающая систему принципов и мер нормативно-правового, экономического, информационно-образовательного, организационного, управленческого и иного превентивного характера;
Т а б л и ц а 2. Варианты и содержание подходов к профилактике технологической зависимости в зарубежной практике7
T a b l e 2. Options and content of approaches to the prevention of technological addiction in foreign practice
Вариант подхода предотвращения проблем интернет-зависимости / A variant of the approach to prevent
Internet addiction problems
Бездействие / Inaction
Содержание подхода к предотвращению проблем технологической зависимости / The content of the approach to preventing problems of technological addiction
Согласно данному подходу, проблемы зависимости от интер-нет-среды рассматриваются как временно появляющиеся и спонтанно исчезающие, что соответственно не требует привлечения превентивных мер / According to this approach, the problems of addiction on the Internet environment are considered as temporarily appearing and spontaneously disappearing, which accordingly does not require the involvement of preventive measures
Поощрение и распространение исследований в сфере профилактики форм технологической зависимости / Promotion and dissemination of research in the field of prevention of forms of technological addiction Просвещение / Education
Подход ориентирован на поддержку и поощрение исследовательской деятельности по изучению факторов, критериев, феноменологии и подходов к профилактике проблем кибераддиктивного поведения / The approach is focused on supporting and encouraging research activities on the study of factors, criteria, phenomenology and approaches to the prevention of problems of cyberaddictive behavior
Подход, при котором превентивная работа акцентирована на содействии просвещению молодежи в вопросах здорового образа жизни в онлайн- и офлайн-форматах, воспитание медиаграмотности и поощрение альтернативных видов деятельности / An approach in which preventive work is focused on promoting the education of young people about healthy lifestyles in online and offline format, fostering media literacy and encouraging alternative activities
Поддержка семьи и общественных организаций / Support for family and community organizations
Подход направлен на формирование медиакомпетентности родителей и других участников образовательного процесса, взаимодействие с государственными и общественными организациями / The approach is aimed at the formation of media competence of parents and other participants in the educational process, interaction with state and public organizations
Источник : составлено авторами. Source : Compiled by the authors.
-
- профилактическое направление государственной политики в сфере своевременного воспитания медиаграмотности у молодежи;
-
- создание условий государством для эффективной самореализации и повышения уровня потенциала молодежи в целях противодействия распространения кибер-аддиктивных паттернов поведения [27].
Проведенный анализ реализации государственной политики в сфере профилактики распространения форм технологической зависимости позволил сделать следующие выводы.
-
1 .Основой реализации превентивной деятельности выступает законодательство
-
2 .Государственная политика в сфере профилактики распространения киберад-диктивных паттернов поведения в молодежной среде реализуется в рамках национальных стратегий и целей, лежащих в основе обеспечения информационной безопасности детей.
-
3 . Основой практической деятельности в сфере профилактики распространения ки-бераддикции в молодежной среде является формирование медиаграмотности детей, медеакомпетентности родителей и других участников образовательного процесса,
-
5 . Превентивная деятельность реализуется через работу образовательных учреждений, в частности, общеобразовательных.
в сфере обеспечения информационной безопасности детей.
что изучено нами в предыдущем исследовании [27].
Обсуждение и заключение
Проведенный анализ научных и правовых источников в сфере технологической зависимости указывает на формальное решение вопроса профилактики кибер-аддиктивного поведения на территории Российской Федерации. Можно констатировать, что имеются недостаточность и односторонность превентивной работы, отсутствие специалистов и слабая готовность участников образовательного процесса к обеспечению информационной безопасности детей. Данное обстоятельство обосновывает результат исследования, проведенное И. Г. Харисовой на платформе anketolog.ru , где подтверждается слабый уровень готовности педагогов к профилактике компьютерной зависимости подростков, особенно педагогов со стажем более 5 лет [28].
Поэтому необходимо понимать, что стремительное развитие информационных технологий порождает новые киберугрозы и не позволяет оперативно отреагировать на них. При этом сохранить устоявшуюся тенденцию «догоняющей модернизации», поскольку установка догнать и перегнать другие страны сужает возможности прогнозирования и не позволяет предотвращать появление проблем [29].
В заключение можно сделать несколько выводов.
-
1 .Понятие «технологическая зависимость» трактуется отечественными и зарубежными исследователями как синонимичные понятия с другими формами кибераддиктивного поведения, что вносит путаницу в понятийный аппарат в сфере профилактики технологической зависимости.
-
2 .Предложенная классификация форм технологической зависимости современного человека («цифровой аутизм», кибербуллинг, киберпреступления, суицидальные группы в сети Интернет, качество
-
3 .Выделенные подходы, используемые при осуществлении профилактики технологической зависимости в зарубежной практике, включают просвещение, а также поддержку семьи и общественных организаций, осуществляющих профилактическую деятельность в этой сфере. Главными механизмами профилактики технологической зависимости являются ограничения и запреты, принятые государствами.
-
4 .В России профилактика технологической зависимости осуществляется на системной основе в рамках реализуемой государственной политики в сфере профилактики распространения кибераддиктив-ных паттернов поведения в молодежной среде и входит в национальные стратегии обеспечения информационной безопасности детей. Возможность использования зарубежного опыта для организации профилактических мероприятий в России, на наш взгляд, имеется; она заключается в применении рамочных программ Дж. Каплана и Р. Гордона.
письменной речи, «эмоциональная глухота», асоциальные типы поведения, цифровая мораль, когнитивные процессы) позволяет систематизировать превентивную деятельность в этой сфере, а установленные основные характеристики форм технологической зависимости помогут дифференцировать их между собой и правильно планировать профилактические меры.
Следует отметить, что несмотря на все многообразие исследований в области профилактики кибераддиктивного поведения требуются дополнительные исследования, направленные на определение проблем, обусловленных технологической зависимостью; обоснование валидации инструментов выявления данной зависимости и определение клинических параметров профилактики. В целом, на наш взгляд, необходимо эмпирическое подтверждение результативности программ профилактики технологической зависимости на основе теоретически обоснованных и разработанных критериев и показателей эффективности профилактической деятельности в этой сфере, что позволит выделить наиболее результативные формы профилактики технологической зависимости.
Практическая значимость исследования заключается в выделении форм технологической зависимости и описании их характеристик, что в педагогической практике позволит разработать действенные профилактические программы.
Список литературы Профилактика технологической зависимости: отечественный опыт и зарубежные инициативы
- Romero Saletti S. M., Van den Broucke S., Chau C. The Effectiveness of Prevention Programs for Problematic Internet Use in Adolescents and Youths: A Systematic Review and Meta-Analysis // Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. 2021. Vol. 15, no. 2. Article no. 10. https://doi.org/10.5817/CP2021-2-10
- School-based Prevention for Adolescent Internet Addiction: Prevention is the Key. A Systematic Literature Review Current / M. A. Throuvala [et al.] // Neuropharmacology. 2019. Vol. 17, issue 6. P. 507-525. https:// doi.org/10.2174/1570159X16666180813153806
- Cyberaddiction among Students at Alassane Ouattara University in Bouake (Côte d'Ivoire): Prevalence and Associated Factors / A. M. Koua [et al.] // American Journal of Psychiatry and Neuroscience. 2022. Vol. 10, issue 1. P. 44-47. https://doi.org/10.11648/j.ajpn.20221001.17
- Cyber-Addiction Psychoprophylaxis Program for Young Generation of Ukraine / Y. Asieieva [et al.] // Amazonia Investiga. 2021. Vol. 10, issue 40. P. 17-28. https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.2
- Chun J., Shim H., Kim S. A Meta-Analysis of Treatment Interventions for Internet Addiction among Korean Adolescents Cyberpsychology // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2017. Vol. 20, no. 4. P. 225-231. https://doi.org/10.1089/cyber.2016.0188
- Mihajlov M., Vejmelka L. Internet Addiction: A Review of the First Twenty Years // Psychiatria Danubina. 2017. Vol. 29, no. 3. P. 260-272. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28949307 (дата обращения: 10.05.2023).
- Kuss D. J., Kristensen A. M., Lopez-Fernandez O. Internet Addictions Outside of Europe: A Systematic Literature Review // Computers in Human Behavior. 2021. Vol. 115. Article no. 106621. https://doi.org/10.1016/). chb.2020.106621
- Internet Addiction: A New Addiction? / K. S. Kurniasanti [et al.] // Medical Journal of Indonesia // Medical Journal of Indonesia. 2019. Vol. 28, no. 1. P. 82-91. https://doi.org/10.13181/mji.v28i1.2752
- Интернет-зависимость у подростков Центральной Сибири: анализ распространенности и структура потребляемого контента / Л. С. Эверт [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. 2020. Т. 19, № 4. С. 189-197. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2020-4-189-197
- Dishkova M., Papancheva R. Digital Skills and the Cyber Addiction at Primary School // New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2019. Vol. 6, no. 2. P. 22-31. https://doi.org/10.18844/ prosoc.v6i2.4279
- Кочетков Н. В. Интернет-зависимость и зависимость от компьютерных игр в трудах отечественных психологов // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11, № 1. С. 27-54. https://doi.org/10.17759/ sps.2020110103
- Южанин М. А. Интернет-зависимость как социально-психологическая проблема общества XXI века // Путеводитель предпринимателя. 2021. Т. 14, № 2. C. 225-239. https://doi.org/10.24182/2073-9885-2021-14-2-225-239
- Резер Т. М., Попов П. М. Теоретико-методологические подходы к изучению проблемы кибераддик-ции // Право и образование. 2022. № 5. С. 21-26. URL: https://pub.asobr.org/mag/jour3.php?link=pr052022 (дата обращения: 05.05.2023).
- Резер Т. М., Владыко А. В. Социально-педагогический аспект развития цифровой образовательной среды // Среднее профессиональное образование. 2021. № 4 (308). С. 25-28. EDN: RVAWER
- Suler J. The Online Disinhibition Effect // Cyber Psychology & Behavior. 2004. Vol. 7, no. 3. P. 321-326. http://doi.org/10.1089/1094931041291295
- Griffiths M. D. Technological Addictions // Clinical Psychology Forum. 1995. Issue. 76. http://doi. org/10.53841/bpscpf.1995.1.76.14
- Kuss D. J., Pontes H. M. Internet Addiction. Hogrefe Publishing, 2019. 86 p. http://doi.org/10.1027/00501-000
- Manifesto for a European Research Network into Problematic Usage of the Internet / N. A. Fineberg [et al.] // European Neuropsychopharmacology. 2018. Vol. 28, issue 11. P. 1232-1246. https://doi.org/10.1016/). euroneuro.2018.08.004
- Malinauskas R., Malinauskiene V. A Meta-Analysis of Psychological Interventions for Internet/Smart-phone Addiction among Adolescents // Journal of Behavioral Addictions. 2019. Vol. 8, issue 4. P. 613-624. https://doi.org/10.1556/2006.8.2019.72
- Toward a Consensus Definition of Pathological Video-Gaming: A Systematic Review of Psychometric Assessment Tools / D. L. King [et al.] // Clinical Psychology Review. 2013. Vol. 33, issue 3. P. 331-342. https:// doi.org/10.1016/j.cpr.2013.01.002
- Griffiths M. D. Conceptual Issues Concerning Internet Addiction and Internet Gaming Disorder: Further Critique on Ryding and Kaye // International Journal of Mental Health and Addiction. 2018. Vol. 16. P. 233-239. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9818-z
- Ryding F. C., Kaye L. K. Internet Addiction: A Conceptual Minefield // International Journal of Mental Health and Addiction. 2018. Vol. 16. P. 225-232. https://doi.org/10.1007/s11469-017-9811-6
- Youth Internet Safety Education: Aligning Programs with the Evidence Base / D. Finkelhor [et al.] // Trauma, Violence, & Abuse. 2021. Vol. 22, issue 5. P. 1233-1247. https://doi.org/10.1177/1524838020916257
- Effects of a Manualized Short-Term Treatment of Internet and Computer Game Addiction (STICA): Study Protocol for a Randomized Controlled Trial / S. Jäger [et al.] // Trials. 2012. Vol. 13. Article no. 43. https:// doi.org/10.1186/1745-6215-13-43
- Lopez-Fernandez O., Kuss D. J. Preventing Harmful Internet Use-Related Addiction Problems in Europe: A Literature Review and Policy Options // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17, issue 11. Article no. 3797. https://doi.org/10.3390/ijerph17113797
- Gaysina G. I., Zakirova V. G. Prevention of Teenager's Internet Addiction: Pilot Program // Ilkögretim Online. 2017. Vol. 16, no. 4. P. 1873-1881. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.348976
- Резер Т. М., Попов П. М. Проблема нормативно-правового регулирования профилактики кибе-раддикции в молодежной среде // ЦИТИСЭ. 2021. № 2 (28). С. 126-137. URL: https://ma123.ru/wp-content/ uploads/2021/05/Rezer-Popov_CITISE_2-2021 (дата обращения: 05.05.2023).
- Харисова И. Г. Разработка системы мониторинга оценки готовности педагогов к обеспечению социальной и психологической безопасности подростков // Современное педагогическое образование. 2022. № 12. С. 209-214. URL: https://clck.ru/36UwJV (дата обращения: 05.05.2023).
- Резер Т. М., Ольшевская Т. Ю. Образовательная политика в России между традициями и современностью // Право и образование. 2019. № 5. URL: https://pub.asobr.org/mag/jour3.php?link=pr052019 (дата обращения: 05.05.2023).