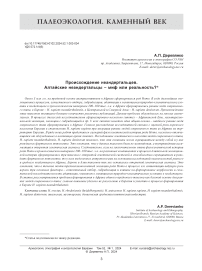Происхождение неандертальцев. Алтайские неандертальцы — миф или реальность?
Автор: Деревянко А.П.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Палеоэкология. Каменный век
Статья в выпуске: 1 т.52, 2024 года.
Бесплатный доступ
Около 3 млн л.н. на предковой основе австралопитеков в Африке сформировался род Homo. В ходе дальнейших эволюционных процессов, естественного отбора, гибридизации, адаптации к меняющимся природно-климатическим условиям в плейстоцене в хронологическом интервале 200-100 тыс. л.н. в Африке сформировались ранние люди современного типа, в Европе H. sapiens neanderthalensis, в Центральной и Северной Азии H. sapiens denisovan. Происхождению этих таксонов посвящено большое количество различных публикаций. Данная проблема обсуждалась на многих симпозиумах. В процессе дискуссий исследователями сформулировано несколько гипотез Африканской Евы, мультирегиональной эволюции, эволюции с гибридизацией и др. У всех гипотез имеется одна общая основа наиболее ранние люди современного типа сформировались в Африке. Главное расхождение исследователей связано с оценкой роли коренного населения Евразии в становлении H. sapiens sapiens при миграции ранних людей современного типа из Африки на территорию Евразии. В ряде моих работ представлен сценарий филогенетической истории рода Homo, несколько отличающийся от обсуждаемых в настоящее время гипотез. Исследование генетического наследия людей современного типа, H. sapiens neanderthalensis, H. sapiens denisovan показало, что эти гоминины могли скрещиваться между собой и у них рождалось фертильное потомство. Это означает, что у данных таксонов были не межвидовая, а внутривидовая ассимиляция и открытая генетическая система. Следовательно, если на заключительном этапе филогенетической истории рода Homo в хронологическом интервале 200-100 тыс. л.н. на различных континентах в процессе длительной эволюционной истории сформировались три таксона с открытой генетической системой и способностью скрещиваться и рождать фертильное потомство, то у всех выделенных антропологами на основании исследований окаменелостей раннего и среднего плейстоцена в Африке, Европе и Азии таксонов так же оставалась открытой генетическая система. Это означает, что в течение почти трехмиллионнолетней эволюции рода Homo в процессе его сапиентации ведущую роль играли три основных фактора естественный отбор, гибридизация и влияние на формирование морфологии и генетической последовательности адаптации гомининов к менявшимся природно-климатическим условиям в плейстоцене. В статье рассматривается проблема формирования в Африке единого предкового таксона как базовой основы для ранних людей современного типа; главное внимание уделено их расселению в Евразии и участию в процессе формирования в Европе H. sapiens neanderthalensis.
Ашельская, мустьерская, денисовская среднепалеолитическая индустрия
Короткий адрес: https://sciup.org/145147163
IDR: 145147163 | УДК: 572.1/4(6) | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.1.003-034
Текст научной статьи Происхождение неандертальцев. Алтайские неандертальцы — миф или реальность?
После открытия в долине Неандерталь в Германии окаменелостей, которые были выделены в неандертальский таксон, изучение этой популяции продолжается уже более 150 лет. О происхождении, материальной и духовной культуре представителей этого вида написаны десятки книг и сотни статей.
Интерес к неандертальцам у меня возник еще в студенческие годы. Для меня они были настоящими землепроходцами, которые в силу небольшой численности могли расселяться в комфортных экологических условиях, в плейстоцене таких зон было достаточно. Неандертальцы расселялись не только на наиболее благоприятных для жизнедеятельности территориях между сороковыми параллелями северной и южной широты, но и далеко на север, где в процессе адаптации к более суровым климатическим условиям и благодаря охоте на крупных животных, в т.ч. хищников, причем с использованием копий преимущественно в близком с ними контакте, у них сформировалась особая морфология: низкий рост, широкая грудная клетка, особое строение лица, массивные кости и т.д.
В 2005 г. в одной из работ я написал о своем особом отношении к неандертальцам, которые мужественно осваивали северные широты [Деревянко, 2005, с. 507]. Мне думается, что если бы европейского неандертальца можно было сводить в салон к модному парикмахеру, надеть на него фрак, то он, наверное, не смог бы дирижировать симфоническим оркестром, но слушал бы музыку Вивальди с большим удовольствием. Уважаемые коллеги – господа ученые, не обижайте, пожалуйста, неандертальцев. Они тоже наши предки! По прошествии многих лет я только укрепился в этом мнении.
На Алтае сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН проводят исследования более 40 лет. Здесь исследуются 10 пещер и 11 стоянок открытого типа. Все палеолитические местонахождения многослойные с длительной стратиграфической последовательностью. В полевых и камеральных работах принимают участие археологи, антропологи, генетики, геохронологи, геологи, биологи, палеогеографы, палеонтологи и др. не только из России, но и из других стран. Исследователями выявлен обширный археологиче ский, палеонтологический и, к сожалению, небольшой антропологический материал. Особенно важные результаты были получены при исследовании Денисовой пещеры, полевые работы в которой продолжаются и в настоящее время.
Весь многочисленный археологический материал достаточно четко делится на средне- и верхнепалеолитический. Ранее всю среднепалеолитическую индустрию исследователи, принимавшие участие в изучении алтайского палеолита, связывали с мустье и соотносили с неандертальцами, а верхнепалеолитическую индустрию – с H. sapiens. И это было оправданно, потому что в прошлом веке были известны только два таксона, относящиеся к концу среднего и к верхнему плейстоцену: H. sapiens neanderthalensis и H. sapiens sapiens. В 1984 г. была открыта пещера, которую назвали в честь выдающегося исследователя палеолита Азии академика А.П. Окладникова. В ней обнаружена мустьерская индустрия, которая существенно отличалась от всей среднепалеолитической, полученной на других стоянках, в т.ч. в Денисовой пещере [Деревянко, Маркин, 1992]. Хронологически она близка к финальному этапу среднего палеолита Алтая, но по всем технико-типологическим показателям эти индустрии отличались друг от друга. Встал вопрос: какие две популяции с данными индустриями могли расселяться на территории Алтая?
Ответ на него удалось получить благодаря сотрудничеству с выдающимся генетиком, лауреатом Нобелевской премии Сванте Паабо и его командой из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. В 2007 г. в ходе совместных исследований было установлено, что в пещере Окладникова расселялись неандертальцы с мустьерской индустрией [Krause et al., 2007], а в Денисовой пещере, как удалось определить не на основе изучения антропологических окаменелостей, а в результате секвенирования ДНК из небольшой ко сточки (Денисова 3), – представители нового таксона – H.s. denisovan [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010].
В 2007 г. в Чагырской пещере, как и в пещере Окладникова, были обнаружены антропологические останки неандертальцев и мустьерская индустрия [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018]. Исследования показали, что данная группа неандертальцев, получивших наименование чагырских, мигрировала на Алтай ок. 60 тыс. л.н. и более 20 тыс. лет обитала рядом с денисовцами. Неандертальцы и де-нисовцы пользовались одними территориями для фуражирования, но при этом сохраняли свою ментальность. У чагырских неандертальцев существовала почти в неизменном виде микокская мустеро-идная индустрия. В их археологических материалах отсутствуют орудия, изготовленные из ко сти, неутилитарные украшения. При этом индустрии дени-совцев, относящиеся к хронологическому интервалу 60–55 тыс. л.н., свидетельствуют о переходе от среднего к верхнему палеолиту, а принадлежащие 55 (50)–45 тыс. л.н. – об одном их самых ранних и ярких в Евразии начальном верхнем палеолите [Деревянко, Шуньков, Агаджанян и др., 2003; Деревянко, 2019, 2022; Деревянко, Шуньков, Козликин, 2020; и др.]. Денисовцы и чагырские неандертальцы могли не только встречаться, но и скрещиваться между собой: в Денисовой пещере обнаружены окаменелости гибрида (Денисова 11), у которого отцом был денисовец, а матерью – неандерталка.
Если расселение чагырских неандертальцев ок. 60 тыс. л.н. на Алтае хорошо подтверждается ан- тропологическими находками из пещер Окладникова и Чагырской, результатами секвенирования их ДНК, а также мустьерской индустрией, то выделение алтайских неандертальцев в Денисовой пещере на основании генетических исследований [Prüfer et al., 2014] вызывает большие сомнения. Результаты секвенирования образцов из культуросодержащих слоев Денисовой пещеры позволяют говорить о возможном расселении алтайских неандертальцев на Алтае ранее 175 тыс. л.н. и попеременном заселении пещеры алтайскими неандертальцами и дени-совцами [Douka et al., 2019; Jacobs et al., 2019; Zavala et al., 2021]. Однако это предположение не находит подтверждения в археологических материалах. Вся культурно-стратиграфическая последовательность в Денисовой пещере с самого нижнего слоя 22 и до слоя 11 включительно содержит гомогенную индустрию денисовцев, в которой прослеживается четкая преемственность в развитии индустрии от раннего среднего до начального верхнего палеолита. Появление и длительное проживание в Денисовой пещере неандертальцев обязательно нашло бы подтверждение в культуросодержащих слоях – здесь залегала бы мустьерская индустрия, но она не представлена в стратиграфической последовательности. Возможность миграции неандертальцев из Европы на Алтай ранее 175 тыс. л.н. исключена, поскольку неандертальцы морфологически и генетически как таксон сформировались в хронологическом интервале 200– 150 тыс. л.н., т.е. возможность их появления на Алтае ранее 175 тыс. л.н. вызывает большие сомнения. Тем более что на транзитной территории от Европы до Алтая не обнаружено стоянок с мустьерской индустрией и останков неандертальцев древнее 100 тыс. лет.
Неандертальцы расселялись на огромной территории – от Испании до Восточной Сибири – нередко небольшими группами в различных природноклиматических условиях с разными ландшафтами, растительностью, животным миром, с различной обеспеченностью водными ресурсами и исходным каменным сырьем для изготовления каменных орудий, что обусловливало вариабельность их морфологии и социальных отношений. Об этом неоднократно писали многие исследователи [McCown, Keith, 1939; Endo, Kimura, 1970; Vandermeersch, 1981, 1989; Trinkaus, 1983, 1987, 1989, 1991; Churchill, 1998; Voisin, 2007]. Оригинальное объяснение вариабельности неандертальцев было предложено Ж.-Л. Вуазеном [Voisin, 2006]: по мере продвижения неандертальцев с запада на восток спектр изменений их морфологических характеристик расширялся и они становились все более размытыми в контексте этого таксона. Но где и когда произошло его морфологическое и генетическое становление?
Формирование в Африке предкового таксона людей современного типа, неандертальцев и денисовцев
Род Homo сформировался в Африке ок. 3,0–2,8 млн л.н. на предковой основе австралопитековых. На самом раннем этапе антропогенеза выделены три вида: H. rudolfensis , H. habilis , H. ergaster / erectus , у которых была открытая генетическая система, они могли скрещиваться, в результате чего рождало сь репродуктивное потомство [Деревянко, 2020, 2022; и др.]. Около 1,75 млн л.н. H. ergaster / erectus начал расселяться в Евразии. В Африке продолжались дальнейшее эволюционное развитие ранних Homo по сапиентной линии и совершенствование галеч-но-отщеповой индустрии. Около 1,75 млн л.н. в Африке у гомининов появились двусторонне обработанные каменные орудия – рубила, которые послужили основой новой индустрии – ашельской [Beyene et al., 2013, 2015]. Очень вероятно, что в Африке в хронологическом диапазоне 1,75–1,4 млн л.н. расселялись два таксона – H. habilis с олдованской индустрией и H. erectus с ашельской – и между ними мог происходить генетический дрейф.
Наименьшее количество обнаруженных в Африке антропологических окаменелостей приходится на хронологический интервал 1,5–0,6 млн л.н. На местонахождении Нариокотоме III, расположенном на западном берегу оз. Туркана, найдены краниальные и посткраниальные останки подро стка в возрасте ок. 12 лет [Brown et al., 1985]. Их древность – 1,6 млн лет. После открытия этой уникальной по информативности окаменелости исследователям удалось обнаружить на континенте небольшое количество антропологических материалов.
Из Олдувайского ущелья происходит серия антропологических останков, свидетельствующих о дальнейшем эволюционном развитии эректусов по сапиентной линии: OH 9 [Rightmire, 1990]; OH 12 [Leakey, Clarke, Leakey, 1971; Holloway, 1973; Antón, 2004]; OH 22 [Rightmire, 1980] и др. Самая древняя окаменелость OH 9 представлена фрагментами, которые включали надглазничные структуры и основание черепа. По окаменелости, обнаруженной в верхней части слоя II, возраст которого 1,25 млн лет [Leakey, Clarke, Leakey, 1971], определено, что объем головного мозга особи составлял ок. 1 076 см3 [Holloway, 1973]. Окаменелость OH 12 – задняя часть небольшого по объему черепа (700–800 см3) [Holloway, 1973] и несколько фрагментов костей лицевого отдела [Antón, 2004] – находилась на поверхности пачки IV [Leakey, Clarke, Leakey, 1971].
Одни из наиболее информативных материалов – хорошо сохранившийся череп с основанием (BOU-VP-2166), три отдельные бедренные и проксималь- ная часть большеберцовой кости – были обнаружены во время раскопок в среднем течении р. Аваш (Эфиопия) в формации Боури в пачке Даканихило, или Дака, древностью 1 042 ± 0,009 млн лет [Asfaw et al., 2002]. Внутричерепной объем составлял 995 см3. Свод и надглазничные части имели следы около-смертного повреждения в виде скобления. Череп, обнаруженный в Боури, имеет большое значение для решения проблем филогенеза. Б. Асфоу и его соавторы сделали важный вывод: по метрическим показателям череп Дака близок как к африканским, так и к азиатским эректусам, это говорит об отсутствии оснований подразделять азиатских и африканских H. erectus на разные виды [Ibid.]. Метриче ские и морфологические характеристики черепа Дака свидетельствуют о том, что азиатские и африканские эрек-тусы – единый биологический вид.
Хронологически к находкам из Даканихило близки окаменелости, обнаруженные в формации Дана-киль в долине Афар, неподалеку от д. Буйя (Эритрея). Это череп с сохранившимися частями лица, корни моляров и премоляров, два резца и фрагмент тазовой кости [Abbate et al., 1998]. По возрасту, определенному на о сновании результатов изучения палеонтологических материалов, палеомагнитных датировок, измерений по следам распада слоя тефры, находки близки к верхней части субхрона Харамильо (~1 млн лет) [Bigazzi et al., 2004]. Объем черепа в пределах 750–800 см3. По мнению С. Антон, этот череп отличается по некоторым морфологическим характеристикам от окаменелостей Дака. Как отмечают Е. Аббате с соавторами, череп Буйя имеет ряд переходных признаков к людям современного вида. Другие исследователи отнесли эти окаменелости к поздним эректусам [Macchiarelli et al., 2004].
В тропической Африке было найдено еще несколько окаменелостей, относящихся к хронологическому диапазону 0,9–0,6 млн л.н. На местонахождении Олоргесайле (Кения) исследователям удалось обнаружить лобную, левую височную ко сти и девять фрагментов свода черепа гоминина (KNM-OL 45500) [Potts et al., 2004]. Возраст этих находок 0,97–0,90 млн лет. По заключению исследователей, гоминин был невысокого роста, череп небольших размеров, лобная кость небольшая по ширине. Толщина надглазничного торуса и общий размер височной ко сти близки к соответствующим параметрам черепа взрослого гоминина нижнего и среднего плейстоцена. Р. Поттс и его соавторы провели сравнение находок из Олоргесайле с другими окаменелостями, представляющими эволюционную линию эректусов (KNM-ER 3733, KNM-ER 3883 и KNM-WT 15000 из Турканы в Кении; ОН 9 и ОН 12 из Ол-дувая в Танзании; Дака, Бодо из Эфиопии; Буйя из Эритреи; Ндуту из Танзании; D 2280 и D 2282
из Дманиси в Грузии; Чепрано из Италии; Атапу-эрка из Испании; Чжоукоудянь из Китая; Сангиран и Нгандунг с Явы; Кабве, Замбия и Салданья из Южной Африки), и пришли к выводу о том, что всех их, несмотря на большие различия в хронологической принадлежности и значительную территориальную удаленность друг от друга, можно объединить в один политипический вид H. erectus . На юге и востоке Африки обнаружены и некоторые другие антропологические окаменелости.
В 1996–1998 гг. Дж. Райтмайр высказал гипотезу о том, что в Африке или в Европе в эпоху среднего плейстоцена или несколько ранее произошло событие видообразования. Основанием для нее по служил найденный в 1976 г. в местности Бодо на среднем Аваше в Эфиопии череп древностью 640 тыс. лет. «Череп Бодо, – писал Дж. Райтмайр, – невозможно исключить из популяции, которая более развита анатомически по сравнению с H. erectus » [Rightmire, 1996, p. 32]. Это наблюдение представляется верным, если учитывать объем мозга этой особи, а также наличие у нее многочисленных общих с Кабве (Броукен-Хилл) характеристик лицевого отдела, свойственных более современным гомининам. Исследователь обратил также внимание на сходство данного черепа с черепами H. erectus/ergaster , которое выражалось в чрезмерно широком и массивном основании лицевой части, утолщенных костях свода черепа, низкой, архаичной черепной коробке, плоском лице и сильно выступающем торусе. Объем черепа Бодо 1 300 см3. Дж. Райтмайр отнес эту окаменелость к H. heidelbergensis вместе с другими антропологическими находками, открытыми в Африке – Эландсфонтейн, Кабве, Ндуту, в Европе – Мауэр, Араго, Петралона, в Китае – возможно, Дали и Цзиньнюшань [Rightmire, 1988].
В своих более поздних работах Дж. Райтмайр рассматривает дальнейшее эволюционное развитие вида H. heidelbergensis по неандерталоидной и са-пиентной линиям. В конце среднего плейстоцена на основе гейдельбергского человека сформировались H. neanderthalensis и H. sapiens . В качестве подтверждения гипотезы о появлении в Африке первых людей современного анатомического вида исследователь приводит находки Флорисбад, Лэтоли и Дже-бель-Ирхуд. В конце среднего плейстоцена, видимо, в процессе анагенетического видообразования сформировались люди современного вида (находки на р. Класиес в Южной Африке; Схул, Кафзех в Израиле) [Rightmire, 2001a, b; 2009a, b; и др.].
Многие антропологи поддерживают гипотезу о событии видообразования, произошедшем в конце раннего – начале среднего плейстоцена: H. erectus sensu lato дал начало новому виду, который исследователи обозначают по-разному: H. heidelbergensis,
-
H. rhodesiensis, H. sapiens [Rightmire, 1996; 1998a, b; 2004, 2008, 2009a, b; 2013, 2015; Tattersall, Schwartz, 2000; Bräuer, 2001a, b; 2007; Hublin, 2001; Stringer, 2002; Foley, Lahr, 2003; и др.].
По поводу этого вида антропологи высказывают разные мнения. К. Стрингер сначала отнес к нему ранних архаичных гомининов, европейских донеан-дертальцев и, возможно, некоторых архаичных вос-точноафриканцев [Stringer, 2002]. Позже он пришел к выводу, что H. heidelbergensis являлся предковой основой для H. sapiens , неандертальцев и денисов-цев [Stringer, 2012]. Р. Фоли разделяет среднеплейстоценовые антропологические находки на три вида: H. heidelbergensis , H. halmei и H. sapiens [Foley, 2001]. С. Мак-Брерти и А. Брукс отвергают видовое название H. heidelbergensis и предлагают вместо него H. rhodesiensis , считая таксон H. heidelbergensis европейским [McBrearty, Brooks, 2000]. Некоторые антропологи допускают возможность формирования H. heidelbergensis на территории Китая [Elter, 2010]. Ж.-Ж. Юблэн также считает, что по отношению к материалам Африки предпочтительнее применять видовое название H. rhodesiensis [Hublin, 2001]. По его мнению, название H. heidelbergensis следует использовать только для обозначения популяций, предшествовавших в развитии первым донеандерталь-ским и неандертальским гомининам, разделив их на два вида: H. heidelbergensis и H. neanderthalensis [Hublin, 1998].
Оригинальный подход к филогенезу среднеплейстоценовых гомининов предложил Г. Манци [Manzi, 2011]. Всех среднеплейстоценовых гомининов Африки и Евразии в соответствии с триноминальной номенклатурой и Международным кодексом зоологической классификации он разделил на четыре подвида: 1) Homo heidelbergensis heidelbergensis – челюсть из Мауэра, Араго, Бодо, Чепрано и, возможно, Петра-лона; 2) Homo heidelbergensis steinheimensis – окаменелости из Атапуэрки (SH). Этот подвид стал предковым для H. neanderthalensis ; 3) Homo heidelbergensis/ rhodesiensis – Кабве и, возможно, все африканские антропологические находки, отно сящие ся к позднему среднему плейстоцену, в т.ч. группа «архаичного» H. sapiens ; 4) Homo heidelbergensis daliensis – выборка «nonerectus» образцов, в которой окаменелость Дали являлась типовой. К этому подвиду Г. Манци отнес и ископаемые материалы из Денисовой пещеры.
Дискуссия о таксономической принадлежности H. rhodesiensis/heidelbergensis не прекращается с того момента, когда был установлен факт существования этого таксона. Причем наибольший интерес у исследователей вызывает H. heidelbergensis, тогда как H. rhodesiensis остается «в тени». Интересные данные приводят М. Роксандич с коллегами [Roksandic et al., 2022]. Проведенный ими поиск на базе данных цитирования интернет-платформы Web of Science дал 274 прямые ссылки на H. heidelbergensis и только 17 – на H. rhodesiensis.
М. Роксандич и ее коллеги предлагают отказаться от выделения таксона H. heidelbergensis sensu stricto, по скольку «относительно недавно был до стигнут консенсус в вопросе о необходимости считать гоми-нинов местонахождения Сима-де-лос-Уэсос ранними представителями неандертальцев… Таким образом, нет смысла выделять еще один вид с такой же морфологией» [Ibid., p. 22]. Не менее радикальным выглядит предложение этих исследователей отказаться от таксона H. rhodesiensis . Для этого, по их мнению, есть две причины: 1) вид плохо определен, и его роль в эволюции понимают и используют по-разному; 2) наименование таксона несет социальнополитическую нагрузку, от которой научное сообщество предпринимает попытки избавиться [Ibid.]. Вместо H. heidelbergensis и H. rhodesiensis исследователи вводят новую таксономическую единицу – среднеплейстоценовый вид гоминина H. bodoensis , который, с их точки зрения, является прямым предком H. sapiens . Наименование bodoensis связано с окаменелостью Бодо 1 (Эфиопия).
Ш. Атрейя и А. Хопкинс, рассматривая проблему таксономии гомининов, большое внимание уделяют систематике и обозначению H. heidelbergensis . Они считают дискуссию о названиях выявленных членов группы и определении самого термина H. heidelbergensis преждевременной до получения достаточной информации, чтобы давать название новому виду, и предлагают направить усилия на обсуждение проблем эволюции человека [Athreya, Hopkins, 2021, p. 18].
Существуют и другие точки зрения на классификацию этих таксонов. Некоторые исследователи с появлением новых данных меняли свое мнение. Такое разнообразие суждений можно объяснить тем, что окаменелости среднего плейстоцена имели как общие, так и отличительные морфологические признаки; кроме того, исследователи часто по-разному оценивают маркерную значимость отдельных морфологических признаков при сравнении антропологических материалов. С моей точки зрения, независимо от различий в природно-климатических условиях, в которых происходило расселение, некоторых морфологических отличий гомининов друг от друга, анатомическое и генетическое развитие у них продолжалось по сапиентной линии. У гоми-нинов формировались сходные производные признаки, и самое главное – сохранялась открытая генетическая система, что делало возможным скрещивание и получение фертильного потомства.
Homo rhodesiensis и H. heidelbergensis представляли один биологический вид, сформировавшийся в Африке 900–800 тыс. л.н. Этот таксон 800 тыс. л.н. разделился на две части, и каждая сыграла свою роль в филогении человека. В эволюции рода Homo ок. 800 тыс. л.н. произошло важнейшее событие. Одна часть этого таксона (H. rhodesiensis) осталась жить в Африке, на ее предковой основе в ходе дальнейшего эволюционного развития, естественного отбора, дрейфа генов, адаптации к меняющимся природно-климатическим условиям 200–150 тыс. л.н. сформировались ранние люди современного типа. Другая часть (H. heidelbergensis) с ашельской индустрией 800 тыс. л.н. мигрировала на Ближний Восток. Свидетельством этого является стоянка Гешер-Бенот-Яаков [Goren-Inbar et al., 2018]. В дальнейшем на предковой основе H. heidelbergensis при их ассимиляции с H. antecessor в Европе 200–150 тыс. л.н. сформировались неандертальцы. Ассимиляция гейдельбергцев с поздними эректусами в Центральной Азии привела к формированию денисовцев. Такой сценарий эволюции человека в среднем плейстоцене подтверждается генетическими исследованиями. По одним данным, дивергенция последовательности ДНК между современными африканцами, с одной стороны, и денисовцами и неандертальцами – с другой, имела место 804 тыс. л.н. [Reich et al., 2010]. Согласно результатам других исследований, расхождение по следовательно сти ДНК современного человека и денисовцев с неандертальцами произошло в хронологическом диапазоне 812–793 тыс. л.н. [Meyer et al., 2012].
Homo heidelbergensis на Ближнем Востоке и проблема формирования человека современного типа и палестинских неандертальцев
Наиболее ранней стоянкой, свидетельствующей о миграции гейдельбергцев на Ближний Восток, является Гешер-Бенот-Яаков в Израиле. Это уникальное местонахождение, на котором выявлена стратиграфическая последовательность, формировавшаяся на протяжении ок. 50 (100) тыс. лет. Исследованию данного местонахождения посвящено большое количество публикаций, в 2018 г. вышла в свет итоговая монография (см.: [Goren-Inbar et al., 2018]). Ранний этап образования культуросодержащих горизонтов датируется временем ок. 0,78 млн л.н., а в целом стоянка относится к периоду, соответствующему МИС 20–18 [Feibel, 2004]. На местонахождении обнаружен многочисленный инвентарь, относящийся к ашельской индустрии.
Популяции сформировавшегося в Африке вида H. heidelbergensis, мигрировав на территорию Леванта, возможно, встретили там автохтонное насе- ление – поздних эректоидов. Поскольку у мигрантов и коренного населения была открытая генетическая система, при скрещивании у них рождалось фертильное потомство. Этим обусловлены различия в процессах дальнейшего развития H. rhodesiensis в Африке и H. heidelbergensis в Евразии. Первые постепенно эволюционировали по сапиентной линии, не смешиваясь с другими таксонами ввиду их отсутствия. Расселение H. rhodesiensis на территориях Африки с различной экологией создавало условия для вариабельности как в морфологии человека, так и в его индустрии. Это, видимо, и стало основной причиной некоторых различий в морфологии ранних людей современного типа и их индустрии в северо-восточной, южной, восточной и западной частях континента [Ragsdale et al., 2023]. Но главное – сапиентное развитие происходило только у H. rhodesiensis, который не смешивался с другими видами.
В Леванте дальнейшая эволюция H. heidelbergensis протекала при ассимиляции их с коренным населением – поздними эректусами. В результате такой гибридизации на Ближнем Востоке, в отличие от Африки, процесс сапиентации пошел по другому пути. В развитии индустрии также прослеживается диффузия технико-типологического комплекса мигрантов и коренного населения. Вследствие этого индустрия Гешер-Бенот-Яаков приобрела много черт, отличающих ее от ашельской африканской индустрии.
Антропологических материалов в Леванте обнаружено немного, и моя гипотеза о дальнейшей эволюции гейдельбергского человека на Ближнем Востоке, безусловно, нуждается в подтверждении новыми археологиче скими, антропологическими и генетическими свидетельствами. Основные среднепалеолитические антропологические материалы обнаружены в Израиле, но их, к сожалению, немного, и не все они имеют надежные датировки. Еще в 1925 г. в пещере Мугарет-эль-Зуттие были найдены лобная, правая скуловая и частично сохранившаяся клиновидная кости. Эти палеоантропологические окаменелости вошли в литературу как останки гоминина Зуттие. Пока, к сожалению, не известен абсолютный возраст этих находок, извлеченных из ашело-ябрудьенского культуросодержащего слоя. Некоторые исследователи датировали их ранним временем (500–200 тыс. л.н.). Однако в последнее время их древность оценивается в 150–110 тыс. лет [Bar-Yosef, 1988] или >122 тыс. лет [Millard, 2008].
На начальном этапе изучения Зуттие антропологи отмечали его морфологическую близость к неандертальцам. А. Хрдличка находил, что эти останки имеют общие черты с азиатским раннеплейстоценовым черепом EI из Чжоукоудяня, принадлежавшим, по его мнению, неандертальцу [Hrdlicka, 1929]. Т. Мак-Коун и А. Кейс указывали на большое сход- ство Зуттие с Табун С1, а также с черепом Схул 5 [McCown, Keith, 1939]. Ф. Вайденрайх видел близость Зуттие к Схул 5, которого считал «прогрессивным неандертальцем», представлявшим промежуточное звено между более примитивными формами и современными людьми [Weidenreich, 1943]. Окаменелости из пещеры Мугарет-эль-Зуттие интерпретировались как форма обобщенного предка западноазиатских позднеплейстоценовых гомининов, таких как Амуд, Табун, Шанидар, Схул и Кафзех [Smith, Falsetti, Donnelly, 1989; Trinkaus, 1989; Simmons, Falsetti, Smith, 1991]. Исследователи отмечали, что эти окаменелости имеют признаки смешения черт представителей разных групп и речь идет о модели единого вида [Frayer et al., 1993; Sohn, Wolpoff, 1993; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998]. С. Сон и М. Волпофф на основе метрического анализа установили, что Зуттие морфологически наиболее близок к ближневосточным неандертальцам, при этом обнаруживает сходство с гомининами Чжоукоудяня [Sohn, Wolpoff, 1993]. Дж. Райтмайр считал, что лобная кость Зут-тие связывает его как с ранними неандертальцами, так и с прямыми предками людей из Схул и Кафзех [Rightmire, 2001a]. Наличие в пещере Мугарет-эль-Зуттие артефактов ашело-ябрудьенского комплекса (350–300 тыс. л.н.) позволяет отнести Зуттие к архаичной популяции, населявшей Африку, т.е. к таксону, которому принадлежат находки Бодо, Эландсфон-тейн, Броукен-Хилл, Эяси, Ндуту [Rightmire, 2009a]. Г. Бройер ассоциировал Зуттие с ранней архаичной группой H. sapiens [Bräuer, 2008].
Антропологи высказывают и другие мнения о таксономической принадлежности данных окаменелостей, но все они отмечают мозаичность морфологических признаков, присущих неандертальцам и людям современного типа. Это свидетельствует в пользу моей гипотезы о том, что в среднем плейстоцене произошло разделение единого биологического таксона H. heidelbergensis на два родственных подвида: людей современного типа и палестинских неандертальцев [Деревянко, 2020]. Находки из пещеры Мугарет-эль-Зуттие иллюстрируют один из этих переходных этапов.
В одной из последних работ, посвященных данной проблеме, С.Е. Фрейдлин с коллегами представили результаты исследования, проводившегося с применением трехмерной геометрической морфометрии и многомерного статистического анализа с целью определения соответствия с точки зрения морфологии о станков Зуттие конкретной плейстоценовой группе: H. erectus sensu lato, H. heidelbergensis sensu lato, H. neanderthalensis, переходный H. sapiens, ранний H. sapiens, верхнепалеолитический H. sapiens. Применение новых методов позволило получить информацию о признаках, которые трудно измерить, используя традиционную антропометрию. В конечном итоге исследователи на основе результатов анализа морфологии Зуттие и иных окаменелостей и с учетом мнения других антропологов разработали четыре гипотезы эволюции гомининов Зуттие [Freidline et al., 2012, р. 237–238]. По времени останки Зуттие совпадают с амудийской индустрией.
Ученые приходят к выводу о морфологическом сходстве Зуттие и ближневосточных неандертальцев (Шанидар V), среднеплейстоценовых гомининов (Араго XXI) и ближневосточных ранних людей современного типа (Схул V). Как отмечают С.Е. Фрейд-лин и ее соавторы, результаты исследования не позволяют дать четкое таксономическое определение о станкам Зуттие, но их морфология типична для популяции, которая была предковой для неандертальцев и людей современного типа, или же популяции, существовавшей сразу после расхождения этих двух видов [Ibid.].
Окаменелость Зуттие, как и некоторые другие палеоантропологические находки, является, с моей точки зрения, подтверждением процесса разделения единого биологического таксона H. heidelbergensis , происходившего в Леванте в среднем плейстоцене. В морфологии всех окаменелостей, обнаруженных на этой территории, выявлено мозаичное сочетание различных сапиентных и неандерталоидных признаков. Эта мозаичность объясняется расселением различных популяций гомининов на смежных территориях, заселением одних и тех же пещер и вследствие этого частой ассимиляцией. Аналогичный процесс происходил в Западной Европе, где антропологи выделяют в среднем плейстоцене около десяти разных видов гомининов.
В слое Е пещеры Табун удалось обнаружить диафиз бедренной ко сти и изношенный нижний моляр, которые были отнесены Э. Тринкаусом к архаичным людям [Trinkaus, 1995]. У этих окаменелостей также прослеживается морфологическая мозаичность.
Более информационно насыщенные палеоантропологические материалы найдены в пещере Кесем [Hershkovitz et al., 2011]. При раскопках в ней обнаружили большое количество каменных изделий, относящихся к амудийской индустрии, как считают исследователи, местного происхождения, не связанных с комплексами Африки и Европы [Barkai, Gopher, Shimelmitz, 2005; Gopher et al., 2005]. Были найдены как верхне-, так и нижнечелюстные зубы. И. Херш-ковиц с соавторами предложили три гипотезы, объясняющие морфологию зубов из пещеры Кесем.
Первая гипотеза: обитатели пещеры относятся к местной архаичной популяции Homo, жившей в Юго-Западной Азии 400–200 тыс. л.н.; зубы, несмотря на некоторую плезиоморфность, указывают на бóльшую степень их родства с популяциями Сху-ла и Кафзеха, чем с неандертальцами [Hershkovitz et al., 2011].
Вторая гипотеза: эволюция H. neanderthalensis в Юго-Западной Азии была длительной, как и в Европе, где неандертальская эволюционная линия восходит к среднему плейстоцену. Этому противоречит, по мнению авторов, тот факт, что о станки современных архаичных людей Схула и Кафзеха датируются более поздним временем, чем находки из пещеры Кесем, но они старше большинства неандертальских образцов из Леванта. Даты культуросодержащих слоев в пещере находятся в диапазоне 400–200 тыс. л.н.
Третья гипотеза: по сравнению с верхнечелюстными нижнечелюстные зубы залегали в более нижних горизонтах и были меньше по размерам. Они не обладали плезиоморфными чертами, характерными для более поздних верхнечелюстных. Как хронологические, так и морфологические различия между зубами могут отражать межпопуляционные различия на уровне вида и свидетельствовать о смене популяций в данном регионе.
Разница в размерах зубов, с моей точки зрения, свидетельствует не о межпопуляционном различии на уровне вида, а о возможном поочередном заселении пещеры представителями двух подвидов, формировавшихся на предковой основе H. heidelbergensis .
Одна из последних антропологических находок – левая половина верхней челюсти из пещеры Мислия, которая датируется в хронологическом диапазоне 194–177 тыс. л.н. [Hershkovitz et al., 2018]. Окаменело сть сохранила большую часть альвеолярных и скуловых отростков, часть нёба и основание носа, а также полный левый зубной ряд – начиная с первого резца (представленного обломанным корнем) и заканчивая третьим моляром [Ibid., p. 456].
Исследование этой окаменелости позволило сделать ряд важных выводов.
-
1. У неполной верхней челюсти Мислия 1 не прослеживаются какие-либо производные скелетные или дентальные признаки неандертальцев [Ibid., p. 458–459].
-
2. Сравнение дентального компонента окаменелости Мислия 1 с верхне- и нижнечелюстными зубами из пещеры Кесем выявило ряд различий. В частности, у резца I2 Кесем выступающий бугорок в виде язычка более выражен, чем у образца из пещеры Мислия. Клык С1 Кесем отличается более выраженной лопатообразностью, наличием бугорка и мезиального гребня. Все эти морфологические признаки, которые отличают передние зубы из пещеры Ке-сем от зубов Мислия 1, наиболее часто встречаются у неандертальцев.
-
3. Мислия 1 по большинству дентальных признаков напоминает более поздние левантийские окаме-
- нелости H. sapiens из Схул и Кафзех и отличается от них степенью редукции гипоконуса.
-
4. Мислия 1 представляет собой самое древнее свидетельство миграции представителей клады H. sapiens из Африки.
С по следним выводом я не могу согласиться. Самые ранние ископаемые останки, морфологические черты которых иногда определяют как «современные», происходят из Северо-Восточной Африки (Джебель-Ирхуд), их древность ок. 300 тыс. лет [Hublin et al., 2017; Richter et al., 2017]. Но эти окаменелости лишь очень условно можно связать с людьми современного типа. Исследователи пещеры Мислия сравнивают ее раннесреднепалеолитическую индустрию с технокомплексами среднего каменного века Магриба (Джебель-Ирхуд), Восточной Африки (формации Гадемотта и Кулкулетти в Эфиопии, Каптурин в Кении). Однако индустрии стоянки Мислия имеют чрезвычайно отдаленное сходство с индустриями среднего каменного века Восточной и Северо-Восточной Африки, и даже при самом большом допущении невозможно найти какие-либо проявления преемственной связи с индустрией Джебель-Ирхуд.
Согласно общепринятому археологами, антропологами и генетиками мнению, человек современного типа сформировался в Африке в хронологическом диапазоне 200–100 тыс. л.н. Следовательно, антропологические и археологические находки из пещеры Мислия не являются свидетельствами миграции на территорию Леванта людей современного типа 194–177 тыс. л.н. С моей точки зрения, если окаменелости из пещеры Мислия можно соотнести с людьми современного типа, то тогда можно предположить, что таксон, который они представляют, сформировался непосредственно на территории Леванта и продолжением этой сапиентной линии эволюции являются более поздние окаменелости из пещер Схул и Кафзех.
Считаю необходимым обратить внимание еще на один вывод, сделанный И. Хершковицем и его соавторами на о снове результатов анализа зубов из пещеры Кесем [Hershkovitz et al., 2011]: эти окаменелости могли принадлежать либо неандертальцу, либо современному человеку, либо предковому для обеих форм гоминину. Такой вывод дает основание предположить, что окаменелости из пещеры Мислия более поздние, по сравнению с находками из пещеры Кесем, и относятся к следующему этапу процесса разделения H. heidelbergensis в Леванте по линии формирования человека современного типа. Трудно таксономически определимыми находками являются теменная ко сть и нижняя челюсть, датируемые периодом 120–140 тыс. л.н., со стоянки Нешер Рам-ла [Hershkovitz et al., 2021]. Теменная кость имеет морфологическое сходство с азиатскими H. erectus, а нижняя челюсть – морфологические особенности, присущие неандертальцам.
Таким образом, немногочисленные антропологические материалы из Леванта, относящиеся предположительно к периоду 350–150 тыс. л.н., не дают точной информации об их принадлежности какому-то определенному таксону: в них сочетаются сапиент-ные и плезиоморфные признаки. Эти окаменелости представляют финальный этап процесса разделения предкового таксона H. heidelbergensis на два таксона – ранних людей современного типа и палестинских неандертальцев.
В Леванте в конце среднего – начале верхнего плейстоцена филогенетическая история развивалась иначе, чем на остальной части Евразии и в Африке. Окончательное разделение H. heidelbergensis в Леванте произошло ок. 250–100 тыс. л.н. Относительно палеоантропологических материалов из Леванта, принадлежащих более позднему времени – хронологическому интервалу МИС 5 и 4, существуют две точки зрения. Одни исследователи считают, что все находки представляют единую популяцию, близкую к анатомически современным людям [Arensburg, Belfer-Cohen, 1998; Kramer, Сrummеtt, Wolpoff, 2001; и др.], другие – отно сят скелетные остатки из Табуна, Амуда и Кебары к неандертальцам, а из Схула и Кафзеха – к ранним H. sapiens [Tchernov, 1992; Jelinek, 1992; Vandermeersch, 1992, 1997; Stringer, 1992, 1998; и др.].
В пещере Табун предположительно в хронологическом диапазоне 140–110 тыс. л.н. селились гоми-нины, которые несколько отличались друг от друга по морфологическому типу. Одни (Табун II) представляли людей современного типа, подобных тем, чьи ко стные о станки обнаружены в пещерах Схул и Кафзех, а другие (Табун I) наряду с сапиентными признаками имели много плезиоморфных черт и относились к палестинским неандертальцам. Этот вывод имеет принципиальное значение. Люди современного типа и неандертальцы селились в пещере Табун в период, соответствующий концу МИС 6 – МИС 5. Следовательно, неандертальцы не мигрировали в Левант из Западной Европы [Stringer et al., 1989; Shea, 2001, 2003; и др.], а формировались одновременно с людьми современного типа на одной предковой основе H. heidelbergensis. Нужно отметить, что исследователи нередко меняли точку зрения на таксономическую принадлежность окаменелостей из пещеры Табун, вероятно, из-за морфологической близости находок между собой. Кроме того, по мнению ряда ученых, люди современного вида, останки которых обнаружены в Схул и Кафзех, и неандертальская особь Табун I относятся к одному хронологическому периоду [Grün et al., 2005; Ronen, Gisis, Tchernikov, 2011]. Этот вывод тоже подкрепля- ет гипотезу об одновременном расселении ранних людей современного типа и неандертальцев на территории Леванта.
Ко стные материалы людей, как считают многие антропологи, бесспорно современного антропологического типа, обнаружены в пещерах Схул и Кафзех. В пещере Схул находились останки десяти человек разного возраста – восьми мужчин и двух женщин. Краниальная и посткраниальная морфология этих людей мозаична. Поэтому неслучайно, что до недавнего времени некоторые антропологи связывали их останки с людьми современного типа и неандертальцами. Первые могли мигрировать в Левант из Африки [Andrews, 1984], а вторые – из Европы [Vandermeersch, 1981].
С учетом различий в стратиграфической позиции о станков исследователи предлагали разделить гомининов, представленных в пещере Схул, по хронологическому признаку на две группы: более раннюю (III, VI–X) и более позднюю (I, IV, V) [McCown, Keith, 1939]. Эту точку зрения поддерживал и А. Ронен [Ronen, 1976]. По мнению Д. Кауфмана [2002], выделение двух таких групп не обязательно подразумевает, что между ними был большой временной разрыв.
В характеристике антропологического типа обитателей пещеры Схул прослеживаются признаки H. sapiens : высокий рост (173–179 см), очень низкие орбиты, большая ширина лица [Зубов, 2004]. Вместе с тем имеется немало особенностей, сближающих людей из данной пещеры с неандертальцами.
Наиболее хорошо сохранился скелет Схул V. Это был мужчина 30–40 лет, высокого роста, грацильного телосложения. Объем его головного мозга составлял 1 518 см3, череп отличался большой высотой свода, малой высотой орбит, довольно высоким лицом при большой ширине [Там же]. Надорбитная область Схул V по ряду описательных и измерительных характеристик сходна с таковыми Младеч 5 и Брно 1 и имеет неандерталоидно-сапиентную морфологию. Скуловая область характеризуется сапиентностью, угол между лобным и височным отростками скуловой кости, равный 115°, также является маркером современного человека. Форма лобного отростка сближает Схул V с особями Оберкассель 1 и Броукен-Хилл. Сравнительный анализ по формообразующим углам мозговой коробки выявил близо сть Схул V к экземплярам Амуд, Броукен-Хилл и Нгадонг XI. По ряду параметров нижняя челюсть Схул V сходна с таковой Амуд, Ле Мустье 1 и 2, Оберкассель 1 и 2 и других представителей неандертальской группы.
В краниальном и посткраниальном скелете Схул V сохранялось немало неандертальских признаков. При этом у разных особей сочетание эволюционно трансформированных и предковых черт выражалось по-разному в лицевом, мозговом отделах черепа и по сткраниальном скелете. Как отмечает С.В. Васильев [2006], результаты статистического анализа подтверждают вывод о том, что в антропогенезе формирование признаков лицевого скелета происходило быстрее, чем мозговой коробки. В филогенезе метрические признаки изменялись интенсивнее, нежели структурные (описательные) [Зубов, 2004, с. 163].
В пещере Кафзех обнаружен более крупный некрополь, чем в пещере Схул. В нем находились останки 15 гомининов современного типа [Ronen, 2012]. Для них имеется дата, установленная TL-методом по обожженному кремню, 92 ± 5 тыс. л.н. Прямое датирование по зубам ЭПР-методом дало более надежные определения: 100 ± 10 и 120 ± 8 тыс. л.н. [Grün, Stringer, 1991].
Лучше других сохранились останки Кафзех 9 – женщины возрастом ок. 20 лет. Рядом с ней погребен ребенок (Кафзех 10). Видимо, это было парное захоронение. Женщину характеризуют высокий свод черепа, небольшой наклон лобной ко сти, относительно слабо выраженный рельеф надглазничной области, сильно выступающий, отчетливо выраженный подбородок; округлый, без шиньона и перегиба, затылок; современное строение скуловой области, клыковая ямка, тонкие стенки черепа, объем которого 1 554 см3 [Зубов, 2004, с. 348]. У хорошо сохранившегося черепа Кафзех 6 также четко выражены признаки, соответствующие современному человеку. У погребенных в пещере Кафзех по сравнению с особями из пещеры Схул больше сапиентных признаков.
При раскопках пещеры Рас-эль-Кельб, расположенной в одноименном горном массиве, обнаружена индустрия, типичная для среднего палеолита типа Табун С, – с отщепами, сколотыми с дисковидных нуклеусов; скреблами различной модификации, зубчато-выемчатыми изделиями, небольшим количеством леваллуазских острий и пластин [Copeland, 1978]. В слое, содержавшем эти изделия, найдены три зуба человека. Один, принадлежавший молодому человеку 16–20 лет, определен как крупный премоляр с са-пиентными и неандертальскими признаками [Vallois, 1962]. Два других зуба – верхний второй моляр человека возрастом ок. 23 лет и верхний второй молочный зуб ребенка – отличались более современными, чем у неандертальцев, признаками.
В Леванте наряду с сапиентной развивалась линия палестинских неандертальцев. Западноевропейские неандертальцы периода 120–50 тыс. л.н. полиморфны по чертам строения черепа и посткраниального скелета. Неандертальцы Леванта отличались от них бόльшим количе ством апоморфных признаков и сапиентностью. В Передней Азии погребения неандертальцев найдены в пещерах Амуд, Ке-бара (Израиль), Шанидар (Ирак), Дедерьех (Сирия).
Выше приводилась краткая характеристика морфологии женской особи из пещеры Табун (Табун I). Ее рост составлял 154 см, объем эндокрана 1 271 см3, череп низкий, наклон чешуи лобной ко сти значительный, сильно развит надбровный валик, почти не выражен подбородочный выступ. Восходящая ветвь нижней челюсти широкая и массивная, с высоким и широким венечным отростком и неглубокой выемкой. Эти и другие признаки позволяют считать череп Табун I наиболее неандерталоидным среди всех антропологических находок с горы Кармел. С неандертальцами ассоциируются и другие фрагментарные антропологические материалы из пещеры Табун.
В пещере Амуд были найдены останки нескольких особей, среди которых выделяется скелет молодого мужчины (Амуд I), захороненного по особому обряду. Сравнить другие находки из этой пещеры по морфологическим признакам невозможно ввиду их фрагментарности.
Скелет Амуд I, по мнению обнаруживших его Х. Судзуки и Ф. Такаи, морфологически несколько более развит по сравнению с Табун I и Шанидар I, хотя имеет некоторые общие черты с последними. По краниальной морфологии и надглазничному выступу Амуд I напоминает Схул IV. Как отмечали исследователи, Амуд I, характеризующийся неандертальской морфологией, имеет черты, которые существенно отличают его от классических европейских неандертальцев [Suzuki, 1970; Takai, 1970].
Мужской скелет Амуд I описывался многими антропологами. Специалисты, сравнивая таксономический статус этой особи и других находок из Африки и Европы, выделяли у нее как плезиоморфные, так и апоморфные признаки. Рост Амуд I ок. 180 см, скелет грацильный, объем головного мозга 1 740– 1 800 см3. По опис ательным характеристикам надорбитная область индивида обладает неандертало-идными чертами (приспущенная область глабеллы и практическое отсутствие в зоне офриона надорбитального желобка) [Васильев, 2006, с. 150–151]. По ряду метрических параметров Амуд I обнаруживает сходство с находками Шанидар I, Схул IV, Араго XXI, Табун I. У Амуд I имеется скуловая вырезка, не характерная для неандертальцев, отсутствует вздутие в области основания лобного отростка верхней челюсти. По метрическим показателям и индексам зигомаксиллярной области находка близка к Оберкассель 1, Сунгирь 1, Фиш Хук и Схул V. По тригонометрии лицевого скелета она имеет сходство со Схул V, Флорисбад, Сунгирь 1, Гибралтар 1. Нижняя челюсть по ряду параметров сапиентна (даже намечается подбородочный выступ). С.В. Васильев отмечает ряд других признаков, которые сближают Амуд I как с неандертальцами, так и с сапи- енсами. По шкале Г. Бройера эта находка может занять место среди «поздних архаичных сапиенсов» [Bräuer, 1984].
С учетом описаний Амуд I, которые приводятся другими антропологами, можно сделать вывод о том, что в его краниуме и посткраниальном скелете сочетаются особенности, присущие классическим западноевропейским неандертальцам, а также ранним людям современного анатомического типа из Африки. Посткраниальная часть скелета Амуд I необычна для европейских неандертальцев. Эта особь значительно выше ростом, имеет длинные нижние и верхние конечности, что сближает ее с мужскими особями из пещер Схул и Кафзех. Нельзя не согласиться с выводом Б. Аренсбурга и А. Бельфер-Коэн о том, что результаты изучения морфологии индивида Амуд I скорее противоречат выводу о его соответствии неандертальскому типу и указывают на размежевание с данной категорией [Arensburg, Belfer-Cohen, 1998].
Некоторые исследователи на основании того, что в Леванте не известны останки людей современного типа, относящиеся к периоду после 80 (75)– 40 тыс. л.н., приходят к заключению о замещении современных людей на этой территории мигрировавшими с юга Европы неандертальцами. Такой вывод вызывает сомнения. Замещение людей современного типа европейскими неандертальцами должно было повлечь за собой изменения в технико-типологическом комплексе каменных орудий, потому что мустье Европы в этом хронологическом диапазоне существенно отличалось от левантийского позднего среднего палеолита. Окаменелости Табун I и Табун II свидетельствуют о том, что уже ок. 100 тыс. л.н. в Леванте обитали палестинские неандертальцы и люди современного типа, заселявшие одни и те же пещеры. Дж. Шварц и И. Таттерсалл делят окаменелости из пещеры Кафзех на две группы: антропологических особей Кафзех 1, 2, 9, 11, по их мнению, можно идентифицировать как H. sapiens , а остальных нельзя, т.к. они определенно не относятся к этому виду [Schwartz, Tattersall, 2005b]. Следовательно, в этой пещере могли поочередно селиться группы людей современного типа и палестинские неандертальцы.
Рассмотрение антропологических находок среднего и верхнего плейстоцена в Леванте и анализ описаний их морфологических особенностей выявили необходимость уточнения сформулированных ранее гипотез: о региональном происхождении неандертальцев [Trinkaus, 1983], существовании единой популяции, близкой к анатомически современным людям [Kramer, Сrummеtt, Wolpoff, 2001]; принадлежности Табун I, скелетных останков из Амуда и Кебары к неандертальцам, а из Схула и Кафзеха – к ранним H. sapiens [Tchernov, 1992; Jelinek, 1992; Vandermeersch, 1992, 1997; Stringer, 1992, 1998; и др.].
В настоящее время немало исследователей поддерживают гипотезу о двух параллельных линиях развития, представленных людьми современного типа и палестинскими неандертальцами [Rak, 1986, 1990; Arensburg, Belfer-Cohen, 1998; и др.], но называют разные хронологические рамки расселения каждой из этих популяций в Леванте. Малочисленные антропологические материалы, обнаруженные в Израиле, свидетельствуют о том, что на этой территории продолжалось дальнейшее эволюционное развитие H. heidelbergensis . Это привело к формированию ранних людей современного типа (Схул, Кафзех) и палестинских неандертальцев (Амуд, Кебара и, возможно, пещера Табун, где попеременно селились ранние люди современного типа и неандертальцы) [Деревянко, 2019, 2020, 2022].
Совсем недавно Х.М. Бермудес де Кастро и М. Мартинон-Торрес опубликовали статью, в которой на основании изучения среднеплейстоценовых окаменелостей из Африки и Евразии пришли к выводу, что, помимо исследования африканских материалов, следует искать предков человека современного типа, по-видимому, в Юго-Западной Азии, особенно в Леванте [Bermúdez de Castro, Martinón-Torres, 2022, p. 91].
Рассмотрение эволюционного развития H. heidel-bergensis в Леванте было необходимо потому, что этот таксон сыграл главную роль в формировании неандертальцев и денисовцев. Часть представителей данного таксона, находившего ся на этапе разделительного процесса, в разные периоды мигрировала в Европу и на восток Азии, где и произошло формирование неандертальцев и денисовцев.
Homo heidelbergensis в Европе и формирование неандертальского таксона
Около 700 (600) тыс. л.н. часть гейдельбергцев с ашельской индустрией мигрировала в Европу, где встретилась с коренным населением – представителями поздней формы эректусов с галечно-отщепной индустрией*. Самые ранние антропологические материалы на этой территории выявлены на стоянке Сима-дель-Элефанте в Атапуэрке: в слое ТЕ 9С были обнаружены фрагмент нижней челюсти гоминина с несколькими зубами и отдельно лежавший нижний второй предкоренной зуб этого же индивида древностью 1,3–1,1 млн лет [Carbonell et al., 2008, p. 465].
К несколько более позднему времени (800– 900 тыс. л.н.) относятся антропологические окаменелости (по одним данным – четыре, по другим – шесть особей), найденные испанскими исследователями в Атапуэрке на стоянке Гран-Долина (уровень TD 6 – Аврора). Окаменелости из TD 6 включают 85 фрагментированных костей черепной и посткраниальной частей скелета [Bermúdez de Castro, Nicolás, 1997].
Опираясь на результаты их изучения, исследователи отнесли эти находки к новому виду H. antecessor . Х.М. Бермудес де Кастро и его соавторы пришли к выводу, что H. antecessor стал предком H. heidelbergensis , который в дальнейшем явился родоначальником неандертальцев, анатомически современных людей и денисовцев [Bermúdez de Castro et al., 2008, 2017a–c; Martinón-Torres et al., 2019].
Гипотеза о выделении на основе нижней челюсти со стоянки Сима-дель-Элефанте и окаменелостей из горизонта ТD 6 стоянки Гран-Долина, разделенных хронологическим интервалом ок. 300–400 тыс. лет, нового вида H. antecessor , который, по мнению испанских исследователей, является предковым для H. neanderthalensis , H. sapiens и H. denisovan , с нашей точки зрения, нуждается в уточнении. Многие антропологи выражают сомнения в правомерности такого вывода. Можно только согласиться с заключением исследователей о выделении поздней формы H. erectus , обозначенной как H. antecessor .
Homo heidelbergensis с ашельской индустрией мигрировал с Ближнего Во стока в Европу, где он встретился с H. antecessor (коренное население), – потомком H. erectus с галечно-отщепной индустрией. У пришлого и аборигенного населения генетическая система была открытой, и в течение 500 тыс. лет в результате ассимиляции этих двух таксонов, естественного отбора, генного дрейфа, адаптации к менявшимся природно-климатическим условиям, при их расселении на обширном европейском континенте происходило формирование нового таксона H.s. neanderthalensis .
В хронологическом интервале 700–200 тыс. л.н. антропологи выделяют около десяти видов гомини-нов, имеющих важную морфологическую информацию. Все они демонстрируют мозаичность, свидетельствующую о сложности эволюционного процесса. Необходимо отметить главное: все обнаруженные окаменелости, на основании которых антропологами выделены виды, представляют подвиды. У каждого вида должна быть предковая форма, на основе которой могло происходить формирование нового таксона. Новые таксоны формировались в основном в результате ассимиляции коренного населения с пришлым – гейдельбергцами; рождалось метисное потомство, у которого происходила дальнейшая гибридизация, что и создавало морфологическую мозаичность у потомков, остававшихся с открытой генетической системой.
В хронологическом интервале 700–200 тыс. л.н. в Европе археологами выделено несколько инду- стрий – галечно-отщепная, ашельская, малоразмерных орудий и др., которые характеризуются вариабельностью. Мозаичность морфологии гомининов и вариабельность индустрий объясняются сложно стью процессов, происходивших в среднем плейстоцене в Европе в связи с формированием нового таксона – H.s. neanderthalensis и его мустьер-ской индустрии. Трудности в решении проблемы филогенеза связаны не только с тем, что хронологический интервал 700–200 тыс. л.н. представлен небольшим количеством антропологических останков в основном из Западной Европы. Эти находки отличаются фрагментарностью и проблематичностью хронологии каждой из них.
Рассмотрим некоторые наиболее значимые окаменелости в соответствии с их древностью. H. heidel-bergensis сформировался в Африке, но свое название получил по месту обнаружения представлявшей его нижней челюсти – карьер неподалеку от местечка Мауэр в районе г. Гейдельберга в Германии. Челюсть впервые была описана О. Шётензаком [Schoetensack, 1908], который выделил ее в новый вид H. heidelbergensis . Челюсть отличалась большими размерами и сочетала в себе древние апоморфии H. erectus и производные характеристики. Э. Майр предложил отнести эту особь к поздним H. erectus [Mayr, 1963]. Ф.К. Хауэлл, видевший в этой челюсти больше производных черт, счел необходимым отнести ее к H. neanderthalensis [Howell, 1960].
Увеличение количества обнаруженных в Африке и Евразии окаменелостей среднего плейстоцена позволило Дж. Райтмайру отнести их значительную часть к новому виду, который сформировался в Африке ок. 900–800 тыс. л.н., и дать ему название по первой находке – H. heidelbergensis [Rightmire, 1988]. На протяжении многих лет ведутся дискуссии о возрасте челюсти из Мауэра. Большинством исследователей принята дата, предложенная М. Дэем на основании изучения останков животных, приспособленных к теплому климату, – конец первого межледниковья или начало второго (~550–500 тыс. л.н.) [Day, 1986]. Возраст этой окаменелости, по уточненным данным, 609 ± 40 тыс. л.н. [Wagner et al., 2010].
Гейдельбергская популяция, мигрировавшая в Европу, расселилась на достаточно обширной территории. Самая северная антропологическая находка происходит из ашельского местонахождения Бокс-гроув в Англии (52° с.ш.). Это одна из информативных ашельских стоянок в Европе с наибольшим количеством ашельских рубил. На стоянке обнаружена большая берцовая кость. К. Стрингер с коллегами после тщательного изучения окаменелости сделал вывод, что она относится к роду Homo [Roberts, Stringer, Parfitt, 1994]. Ко сть датируется, по одним источникам, в диапазоне 524–478 тыс. л.н. [Ibid.], по другим –
423–362 тыс. л.н. [Bowen, Sykes, 1994]. Очень вероятно, что в Англии гейдельбергцы встретили поздних эректусов. На этой же широте находятся стоянки H. erectus с галечно-отщепной индустрией древностью 800–900 тыс. лет. Еще одна стоянка с галечно-отщепной индустрией открыта в Восточной Англии в Пэйкфил-де [Parfitt et al., 2005]. Для этого местонахождения различными методами установлена дата ок. 700 тыс. л.н. Таким образом, имеются все основания считать, что гейдельбергцы встретились в Англии с поздними эректусами и между пришлым и коренным населением могла происходить ассимиляция.
Одним из полностью исследованных местонахождений является грот Кон-де-лʼАраго, расположенный в 30 км от г. Перпиньяна, вблизи небольшого г. Тотавеля в Во сточных Пиренеях. В ходе раскопок (1964–2015 гг.) в нем было найдено 148 фрагментов человеческих останков [Lumley M.-A., 2015]. Окаменелости залегали в четких стратиграфических условиях в 15 литологических подразделениях (в т.ч. в основании подразделения Q с датой 550 тыс. л.н. и в верхней части подразделения С с датой 400 тыс. л.н.), отно сящихся к периоду, соответствующему МИС 14–11. В течение этого длительного времени гоминины пережили два периода с холодным и сухим климатом, разделенных периодом с умеренно влажным климатом.
Человеческие останки представлены преимущественно фрагментами черепа. Среди них – передняя часть черепа Араго 21, которая впервые дала возможно сть составить представление о физическом облике первых европейцев. Весь набор находок из грота Кон-де-лʼАраго – 5 нижних челюстей, 123 зуба (изолированные или на альвеолярном отростке), несколько фрагментов по сткраниального скелета, в т.ч. 9 элементов верхних и 19 элементов нижних конечностей – позволил выявить 30 индивидов: 18 взрослых и 12 детей [Ibid., p. 303].
К этому обширному антропологическому материалу прилагается подробная полевая документация с четкой фиксацией мест залегания окаменелостей в стратиграфической последовательности; он имеет надежную геохронологию. Во время полевых работ и лабораторных исследований все находки, обнаруженные при раскопках, изучались представителями разных направлений естественных и гуманитарных наук с применением самых современных методик и оборудования. Антропологический материал всесторонне исследовался одним из самых высококвалифицированных антропологов – М.-А. де Люм-лей. Как она отмечает, «многочисленность останков дает возможность оценить биоразнообразие и состав этой популяции» [Ibid., p. 304].
М.-А. де Люмлей обращает внимание исследователей на то, что находки из грота Кон-де-лʼАраго имеют некоторые архаичные черты, не отмеченные у челюсти из Мауэра. Особая ценность этих антропологических материалов состоит в том, что они дают возможность одновременно изучать череп и нижние конечно сти европейского среднеплейстоценового гоминина. Черепа с хорошо сохранившейся лицевой частью, обнаруженные в четких стратиграфических условиях, – большая редкость. Череп Араго 21, у которого имеются лицевые кости, является наиболее полным и лучше всего сохранившимся на территории Европы первой половины среднего плейстоцена.
Оживленные дискуссии вызывает вопрос о таксономической принадлежности окаменелостей из Кон-де-лʼАраго. Первые находки в гроте были названы исследователями преднеандертальскими [Lumley M.-A., 1970, 1973]. Череп Араго 21 имел много черт, сближавших его с поздними H. erectus . В частности, Араго 21 проявлял сходство с окаменело стями из Марокко и Алжира. Это послужило основанием для предположения о генетической связи европейских и африканских гомининов среднего плейстоцена [Aguirre, Lumley M.-A., 1977]. В ходе дальнейшего комплексного изучения археологических и антропологических материалов из грота Кон-де-лʼАраго руководители работ – выдающийся французский археолог А. де Люмлей и его не менее известная супруга М.-А. де Люмлей – пришли к заключению о необходимо сти выделения этих окаменело стей в отдельный таксон Homo erectus tautavelensis [Lumley H., Lumley M.-A., 1979]. Свой вывод они подкрепили следующими доказательствами: антропологические останки из пещеры Кон-де-лʼАраго обнаруживают морфологическое сходство между собой; в морфологии этих гомининов выделяются признаки, свойственные преднеандертальским популяциям Европы и отличающие их от гомининов, расселявшихся в Африке и Азии в ту же эпоху. Эти H. erectus , первые обитатели Европы, являются предками неандертальца и современного человека [Ibid.].
М.-А. де Люмлей объединила разные окаменелости – Араго, Чепрано, Галериа, Сванскомб, Вертеш-сёлёш, Бильцингслебен, Петралона, Бьяш-Сен-Ва, Лазаре – в подвид H. erectus tautavelensis , который заместил H. antecessor . У развитых европейских эрек-тусов можно выделить ряд стадий эволюции, которая 120 тыс. л.н. завершилась формированием неандертальцев. Феномен неандертализации, как считает М.-А. де Люмлей, будет широко реализован в Европе начиная со 100 тыс. л.н.
Обширный антропологический материал, полученный при раскопках в Кон-де-лʼАраго, вызвал у антропологов большой интерес. Окаменелости, представляющие как черепные, лицевые, так и посткраниальные элементы, открыли возможность для сравнения их с другими антропологическими находками из Африки и Евразии.
Д. Джохансон и Э. Блэйк считают, что штейн-геймский череп является «уменьшенной копией» Араго 21. Небольшую разницу в размерах они объясняют половым диморфизмом [Johanson, Blake, 1996]. Дж. Шварц и И. Таттерсалл пришли к выводу о том, что челюсти из Мауэра и Араго, несмотря на различия в передне-задней ветви и некоторые другие детали, относятся к одному виду, и указали на необходимость проведения сравнения краниальных образцов из Араго, в частности, лицевой части черепа Араго 21 с другими черепами ископаемых го-мининов и H. heidelbergensis . Если принять в качестве образцов Араго 21 и связанные с ним фрагменты, то можно найти несколько относительно хорошо сохранившихся останков, которые станут претендентами на зачисление в H. heidelbergensis [Schwartz, Tattersall, 2005b, p. 503].
Во Франции известна еще одна окаменелость, относящаяся к первой половине среднего плейстоцена, – нижняя челюсть, обнаруженная в вертикальной галерее Ля Ниш в гроте Монморен. При исследовании грота удалось найти фауну миндельского возраста (~540–470 тыс. л.н.) [Lumley M.-A., 2015]. Эта челюсть, по мнению М.-А. де Люмлей, сильно отличается от челюстей гомининов, живших в Северной Африке, а также на востоке и юго-востоке Азии, – атлантропов, питекантропов, синантропов. От окаменелостей, обнаруженных на востоке Азии, она отличается изгибом альвеолярной дуги. У европейских образцов всегда уплощенная стенка впереди на уровне резцов, в то время как у питекантропов дуга нижней челюсти впереди правильной выпуклой формы. В целом челюсть из грота Монморен массивная, в ней сохранилось шесть зубов – моляров. Исследователям удалось найти такие изолированные зубы и позвонок.
По толщине ко стей в области симфиза, а также по форме подбородочной области (резко скошена назад под углом 73°), большой ширине во сходящей ветви и низкому положению ямки двубрюшной мышцы указанная челюсть, по заключению А.А. Зубова и С.В. Васильева, близка к гейдельбергскому, а по размерам зубов – к штейнгеймскому черепам, но слишком массивная по сравнению с последним [Зубов, Васильев, 2006]. В целом нижняя челюсть из грота Монморен выглядит архаичной. Г. Билли и А. Валлуа отмечали, что эта челюсть по некоторым чертам более примитивная, чем челюсти эректусов, но при этом имеет ряд производных характеристик; это позволяет отнести данную окаменелость к «пред-неандертальцам» [Billy, Vallois, 1977].
Впервые череп гоминина среднего плейстоцена был найден в 1933 г. неподалеку от местечка Штейн- гейм, в 30 км к северу от г. Штутгарта в Германии. Окаменелость – череп молодого индивида, у которого большая часть лица, верхние моляры и премоляр были деформированы в процессе фоссилизации, – обнаружил антрополог Ф. Беркхемер во флювиальных отложениях гравийного карьера на берегу р. Мурр. Отложения, по одним данным, относятся к миндель-риссу [Cela-Conde, Ayala, 2007], по другим – их древность ок. 475 тыс. лет [Adam, 1985].
Все исследователи отмечают у окаменелости из Штейнгейма удивительное сочетание примитивных и продвинутых черт. Череп имел такие же признаки, как у H. erectus : небольшой внутренний объем черепа – 1 100 см3, низкая черепная крышка, «убегающий» лоб, массивный надбровный валик. Автор открытия и первый исследователь Ф. Беркхемер выделил находку в новый вид Homo steinheimensis [Berckhemer, 1936]. Б. Кэмпбелл понизил ранг образца до подвида H. sapiens steinheimensis [Campbell, 1964]. Некоторые антропологи относили гоминина из Штейнгейма к неандертальцам. Против такого таксономического определения свидетельствовали древность окаменелости и некоторые морфологические признаки. По мнению М. Дэя, положение максимальной ширины черепа, форма и толщина его свода сближают окаменелость из Штейнгейма со Сванскомбом [Day, 1986].
Одним из ярких примеров несовпадения точек зрения исследователей является дискуссия о таксо-номиче ском положении и возрасте черепа Чепра-но. Эта окаменелость была найдена в Центральной Италии неподалеку от небольшого городка Чепрано, ориентировочно в 100 км к югу от Рима. И. Биддитту, сотрудник итальянского Института палеонтологии человека, 13 марта 1994 г. обнаружил первый фрагмент черепа. В дальнейшем в ходе раскопок исследователям удалось найти ок. 50 фрагментов. Череп реконструировался на протяжении примерно 5 лет несколькими исследователями [Ascenzi et al., 1996, 2000; Clarke, 2000].
Дискуссия о месте окаменелости Чепрано в систематике гоминин связана с тем, что находка была вначале датирована временем ок. 0,8–0,9 млн л.н. [Ascenzi et al., 1996; Ascenzi, Segre, 1997]. Исследователи, изучив череп, пришли к выводу, что его основные характеристики сопоставимы с показателями азиатского H. erectus. Черепной свод низкий, с уплощенным покатым лбом. Надбровные дуги массивные и сильно выступают вперед. Они непрерывно соединены с глабеллярным возвышением, структура которого одинаково массивная. Большая толщина костей. За надглазничным валиком – протяженная депрессия в виде желоба, выражена посторбитальная констрикция. Инион совпадает с опистокранионом, максимальная ширина располагается очень низко – на уровне сильно развитого супрамастоид-ного гребня. Затылочная чешуя очень крупная, если сравнивать ее ширину между астерионами. Вместе с тем исследователи отмечают характеристики, отличающие череп Чепрано от такового у H. erectus. Внутренний объем черепа Чепрано 1 185 см3, тогда как у H. erectus наибольший объем редко превышает 1 000 см3. У черепа Чепрано нет отчетливого сагиттального шва или парасагиттального углубления в лобной чешуе, где, в отличие от теменных костей, свод сохраняет свою непрерывность. Отмечены уменьшенное заглазничное сужение, относительное сокращение массивности свода по отношению к основанию.
Некоторые антропологи с учетом того, что Че-прано, как и испанские окаменелости из Атапуэрки (TD 6), входит в число самых древних антропологических останков, обнаруженных в Средиземноморском регионе, посчитали возможным объединить эти антропологические материалы в один вид H. antecessor ; при этом они не исключали появления в Европе двух видов в конце раннего плейстоцена [Ascenzi et al., 1996; Clarke, 2000; Bruner, Manzi, 2005].
В ходе междисциплинарных исследований удалось установить окончательный возраст черепа Че-прано – в пределах 430–385 тыс. л.н. [Manzi et al., 2010]. Этот результат оказался неожиданным для специалистов и позволил в значительной степени пересмотреть высказанные ранее гипотезы о месте окаменелости Чепрано в филогенезе среднеплейстоценовых гомининов. Как оказалось, итальянская окаменелость относится не к концу раннего, а ко второй половине среднего плейстоцена. При этом, по заключению ученых, она, обладая бесспорными морфологическими признаками неандертальцев, проявляет сходство с позднеплейстоценовыми находками из Западной Европы. Исследователи пришли к выводу, что новая геохронологическая позиция Чепрано свидетельствует о разнообразии среднеплейстоценовых гомининов и о более сложном сценарии их эволюции, чем считалось ранее.
Одним из самых выдающихся местонахождений в Европе, благодаря обилию антропологических находок, относящихся примерно к одному и тому же хронологическому диапазону, является стоянка Сима-де-лос-Уэсос (SH). Она дислоцирована во втором секторе Атапуэрки – Куэва-Майор, находящемся в 500 м от первого – Тринчера-дель-Феррокариль. В SH найдено, по одним данным, ок. 4 тыс. человеческих останков, по другим – 3 тыс. и 3,6 тыс. фрагментов [Aguirre, 1995; Bermúdez de Castro et al., 1997, 2004; Rodríguez, Carbonell, Ortega, 2001; Falguères et al., 2001].
Коллекция антропологических окаменело стей из SH уникальна как по количеству, так и по морфо- логическому разнообразию. Х.М. Бермудес де Кастро и С. Сармиенто провели сравнительный морфологический анализ человеческих зубов из двух местонахождений в Атапуэрке – Гран-Долины (TD 6) и SH [Bermúdez de Castro, Sarmiento, 2001]. На стоянке SH обнаружены 380 зубов, из них 98 экз. находились in situ. Большинство зубов (376 экз.) постоянные. Авторы первых публикаций, посвященных анализу окаменелостей с этой стоянки, предполагали, что зубы принадлежали 32 особям [Bermúdez de Castro, Nicolás, 1997]. Последующий тщательный анализ показал, что антропологический материал со стоянки SH принадлежал 27 индивидам.
Окаменелости SH датируются периодом ок. 430 тыс. л.н. [Arsuaga et al., 2014]. В краниальной и посткраниальной морфологии гомининов этого местонахождения много общих черт, характерных для неандертальцев. Поэтому некоторые антропологи относят окаменелости SH к данному таксону. Эту гипотезу нельзя считать обоснованной, потому что гоминины рассматриваемого местонахождения, согласно результатам секвенирования ДНК, находились в процессе формирования.
Следует считать большим до стижением исследователей Института эволюционной антропологии Макс а Планка в Лейпциге секвенирование почти полной последовательности мтДНК из бедренной ко сти особи такой большой древности из SH. Последовательность мтДНК этого гоминина оказалась не неандертальской, как ожидалось, а денисовской [Meyer et al., 2014]. Для проверки этого результата исследователями на основе последовательностей мтДНК гоминина из SH, современного человека, раннего человека современного типа, неандертальца, денисовца, шимпанзе и бонобо были созданы три филогенетические древа. Все три древа продемонстрировали топологию, в которой мтДНК особи из SH имеет общего предка с мтДНК денисовца, тогда как мтДНК остальных таксонов исключена из этого процесса [Ibid., p. 404].
Вторичное секвенирование ДНК из двух костей гоминина из SH выявило последовательность ядер-ной ДНК неандертальцев, а не денисовцев [Meyer et al., 2016]. Последовательность ядерной ДНК из бедра АТ-5431 и резца говорит о том, что находки принадлежали неандертальской эволюционной линии. Исследователи сделали вывод о том, что гоминины из SH были ранними неандертальцами или группой, тесно связанной с предками неандертальцев после расхождения от общего для них с денисовцами предка [Ibid., p. 507].
Секвенирование ДНК гомининов из SH показало наличие в их геноме мтДНК денисовца. Однако мтДНК наследуется в качестве отдельной единицы, передающейся от матери к ее потомкам, и она не от- ражает полную картину взаимоотношений родственности отдельных гомининов и популяции в целом. Ядерный геном индивидов из SH удалось секвени-ровать из фрагмента бедра и резца. Исследователи установили, что в геноме из бедренной кости в 87 % общей ветви неандертальцев и денисовцев 43 % составляют аллели неандертальцев и 9 % – денисовцев; в 68 % из резца – 39 % составляют аллели неандертальцев и 7 % – денисовцев. Результаты секвенирования генома чрезвычайно важны. Они подтверждают, что особи из SH были не только предками неандертальцев, в их геноме сохранялись мтДНК и небольшой процент ядерной ДНК денисовцев. Первое разделение морфологической и генетической наследственности на две таксономические линии (неандертальцев и денисовцев) у гейдельбергцев произошло, когда часть их популяции 700 (600) тыс. л.н. начала расселяться в Европе. В процессе формирования на предковой основе гейдельбергцев нового таксона неандертальцев у вновь формирующегося таксона длительное время сохранялась часть мтДНК дени-совца, который никогда не расселялся в Европе.
О продолжительности процесса формирования неандертальского таксона свидетельствуют другие, более поздние антропологические окаменелости, найденные в Европе.
В 1933–1935 гг. в Англии у небольшого городка Сванскомб, в 30 км к востоку от Лондона, в долине р. Темзы на ашельской стоянке исследователям удалось обнаружить затылочную кость, а также левую и правую теменные кости одного черепа. Кости позднеплейстоценовых животных и ашельские орудия залегали в слое, который был отне сен ко второму межледниковью. Сначала для слоя была получена дата 225 тыс. л.н. [Bridgland et al., 1985], а позднее – 423–362 тыс. л.н. [Bowen, Sykes, 1994]. Фрагменты черепа принадлежали женщине. Внутричерепной объем ориентировочно составлял 1 325 см3. Череп, для которого характерны большая толщина костей, низкий свод, округлая затылочная область, сочетал примитивные особенности и хорошо выраженные черты современного человека. Мозаичность характеристик вызвала дискуссию о таксономической принадлежности этой находки. У. Ле Грос Кларк, первым изучавший окаменелость, и его соавторы обозначили ее как Homo cf. sapiens [Le Gros Clark et al., 1938].
Позднее А. Кеннард выделил окаменелости из Сванскомба в особый вид [Kennard, 1942]. По многим показателям фрагменты черепа из Сванскомба имели сходство с черепом из Штейнгейма (Германия), который отличался выраженной мозаикой примитивных особенностей и черт, свойственных человеку современного типа.
Ф.К. Хауэлл окаменело сти из Сванскомба, Штейнгема и Фонтешевада на основании их боль- шого сходства включил в группу ранних неандертальцев [Howell, 1951]. Другой точки зрения придерживался М. Волпофф: большую группу европейских среднеплейстоценовых окаменелостей из Сванском-ба, Вертешсёлёша (Венгрия), Петралоны (Греция), Штейнгейма и Бильцингслебена (Германия) он отнес к H. erectus [Wolpoff, 1971]. Ученый объяснял наличие у черепа из Сванскомба черт человека современного типа тем, что он принадлежал женщине, а морфологические различия в группе, отнесенной им к поздним эректусам, связывал с половым диморфизмом. М. Дэй в ходе изучения окаменелостей из Сван-скомба пришел к заключению, что они представляют индивида женского пола, переходного между H. erectus и H. sapiens, который может быть помещен в основание боковой ветви, ведущей к европейским неандертальцам [Day, 1986]. У исследователей имеются и другие точки зрения на таксономическую принадлежно сть этой окаменелости. На примере определения таксономической принадлежности черепа из Сванскомба видно, насколько различаются выводы исследователей, что объясняется большой мозаичностью черт антропологических останков.
О расселении в Европе поздних гомининов с хорошо выраженными эректоидными и сапиентными особенностями свидетельствуют и другие антропологические находки. В 50 км к северо-востоку от Будапешта на местонахождении Вертешсёлёш с галечно-отщепной индустрией в основном культуросодержащем слое найдены зубы ребенка, а в перекрывающем его горизонте – затылочная кость взрослого индивида. Объем черепной коробки взрослого индивида со ставлял по первым данным 1 400 см3, по уточненным – 1 325 см3. У этой особи хорошо прослеживаются некоторые крайне архаичные признаки: большая толщина ко стей и сильно выраженный затылочный торус. Среди молочных зубов очень большими размерами и отсутствием цингулума выделялся нижний клык. У окаменелостей фиксировались также ярко выраженные производные сапи-ентные признаки, что давало повод относить эти находки к поздним эректусам и ранним H. sapiens .
В Германии на стоянке с раннепалеолитической индустрией Бильцингслебен были обнаружены фрагменты костей, как удалось установить в ходе реконструкции, двух индивидов, существенно отличавшихся друг от друга [Schwartz, Tattersall, 2005b]. Для культуросодержащего слоя получены даты 228 ± 17/12 тыс. л.н. [Harmon, Gtazek, Nowak, 1980] и 414 ± 45 тыс. л.н. [Schwarcz, 1988]. Дж. Шварц и И. Таттерсалл подчеркивают, что фрагменты костей этих индивидов ставят ряд проблем.
Окаменелости были найдены в одном культуросодержащем слое и вначале рассматривались антропологами и археологами как принадлежавшие одной особи. Руководивший полевыми исследованиями Д. Маниа с соавтором, как и другие специалисты, исходя из архаичного строения лобных костей (массивный надглазничный валик, «убегающий» назад лоб), а также резкого перегиба затылочных костей с образованием сильно выраженного торуса, относил эту окаменелость к поздним H. erectus и сравнивал ее c синантропом 3, а также с окаменелостью OH 9 из Олдувая [Vlček, Mania, 1977]. Своеобразна на этом местонахождении индустрия – она состоит в основном из малоразмерных орудий. Следовательно, можно сделать вывод, что стоянка с галечно-от-щепной микроиндустрией принадлежала популяции, в которой особи морфологически существенно отличались друг от друга. На этот вывод я обращаю особое внимание, поскольку не исключено, что на протяжении всего среднего плейстоцена в Западной Европе расселялись два таксона: поздние H. erectus (antecessor?) и H. heidelbergensis. Иногда они могли находиться на соседних или близких территориях и при отсутствии враждебных отношений встречаться, скрещиваться и производить на свет фертильное потомство. Это и создавало большую мозаичность в морфологии гомининов второй половины среднего плейстоцена. Важно отметить, что индустрия указанных гомининов отличалась от ашельской и му-стьерской.
Гоминину финала среднего плейстоцена принадлежал череп Петралона, обнаруженный в 1939 г. в пещере неподалеку от г. Салоники в Греции. Он свисал со сталактита, а остальная часть скелета лежала на земле. Рядом с этими костями, которые, к сожалению, были утеряны, находились немногочисленные среднепалеолитические орудия [Poulianos, 1971]. Изучению окаменелости из Петралоны посвящены десятки работ. Находка вызывает особый интерес у антропологов, изучающих среднеплейстоценовых гомининов Евразии. Череп из Петралоны (без нижней челюсти) хорошо сохранился. Его древность оценивается по-разному. Методом электронно-спинового резонанса определена дата более 700 тыс. л.н. [Poulianos, 1978]. Наиболее достоверная дата, установленная ЭПР-методом, – 250–150 тыс. л.н. [Grün, 1996].
Оценивая морфологию черепа из Петралоны, все исследователи отмечают ярко выраженную мозаичность очень архаичных и хорошо выраженных сапиентных признаков: массивный надглазничный валик и большая толщина костей наряду с довольно значительной высотой свода, относительно низкими орбитами, намечающимися клыковыми ямками. По мнению А.А. Зубова и С.В. Васильева, обращают на себя внимание «килевидная» форма черепа и резкий перегиб затылка с сильно выраженным затылочным торусом (черта, скорее свойственная эректоидным формам), а также некоторые неандер- талоидные особенности (скошенность скуловой области, широкое носовое отверстие). Объем черепа 1 220 см3 [Зубов, Васильев, 2006]. Ввиду такой мозаичности архаичных и сапиентных признаков исследователи по-разному оценивали таксономическую принадлежно сть этой окаменело сти. Антропологи характеризуют ее как обладающую хорошо выраженными чертами, типичными для неандертальцев [Kokkoros, Kanellis, 1960], самых ранних представителей H. sapiens [Stringer, Howell, Melentis, 1979], развитых поздних H. erectus [Hemmer, 1972].
Окаменелость из Петралоны часто используется учеными при сопоставлении антропологических находок среднеплейстоценовых гомининов Африки и Евразии. Считаю необходимым кратко остановиться на выводах Дж. Шварца и И. Таттерсалла, основанных на результатах сопоставительного анализа среднеплейстоценовых гомининов. Эти исследователи, рассматривая возможность отнесения к виду H. heidelbergensis окаменелостей из Африки и Евразии, отмечают, что среди европейских образцов первым претендентом на зачисление в этот вид является череп из Петралоны. Среди африканских ископаемых очевидные кандидаты – черепа Бодо, Кабве и Салданья; из азиатских на эту роль могут претендовать китайские образцы из Дали и Цзиньнюшаня. Все они сопоставимы по размерам черепа и пропорциям лицевой части относительно черепной коробки. Череп из Петралоны особенно напоминает череп Араго 21. То же самое можно сказать о находках из Бодо, Кабве, Салданье и Дали. Меньшее сходство проявляют находки из Цзиньнюшаня. К этим образцам исследователи относят половину черепа Нармада и часть свода черепа Маба.
Дж. Шварц и И. Таттерсалл, подробно рассмотрев признаки не только похоже сти, но и различий, приходят к выводу о «фундаментальном структурном сходстве большинства из них» [Schwartz, Tattersall, 2005b]. Я привожу этот вывод исследователей для того, чтобы еще раз подчеркнуть – гоминины среднего плейстоцена, эволюционируя по сапиентной линии и, несмотря на большую дивергенцию, различия в природно-климатических условиях обитания, будучи потомками одного предкового вида H. erectus , сохраняют много общих признаков. Афро-европейские гоминины среднего плейстоцена объединяются в один вид – H. heidelbergensis/ rhodesiensis . Азиатские гоминины этого периода также эволюционируют по сапиентной линии, в их морфологии прослеживается немало производных признаков, указывающих на сходство с популяцией H. heidelbergensis/rhodesiensis ; имеются и отличия, возникшие вследствие дивергенции.
Возможность единой эволюционной линии развития по сапиентному вектору гомининов в Евразии допускали и другие исследователи. Так, Дж. Райт-майр отмечал, что «черепа из Петралоны и Броукен-Хилл лишь немного различаются по размерам орбитальной части, лобным пропорциям и выдающемуся положению торуса, пересекающего затылочную ко сть. В целом же они удивительно похожи друг на друга» [Rightmire, 2001, p. 133]. Сходство в морфологии гомининов позднего среднего плейстоцена прослеживается не только по афро-европейским антропологическим находкам, но и по китайским. Дж. Райтмайр и некоторые другие антропологи относили окаменелости Дали и Цзиньнюшань в Китае к H. heidelbergensis. Морфологическое сходство между ними – результат общей закономерности эволюции человека по сапиентной линии, несмотря на дивергенцию, ассимиляцию и региональную составляющую. Неслучайно Д. Джохансон считал возможным отнести череп Дали к H. sapiens [Johanson, Blake, 1996]. К. Гроувc пришел к выводу, что окаменелости Дали и Цзиньнюшань проявляют сходство не с останками более древних гомининов Чжоукоу-дянь и Хэсянь, а с находками того же возраста из Африки и Европы [Groves, 1994].
Многие антропологи убеждены в том, что формирование неандертальцев происходило в основном в Западной Европе. Это подтверждается антропологическими материалами с данной территории, свидетельствующими о постепенном накоплении неандерталоидных признаков в морфологии позднесреднеплейстоценовых гомининов, кроме того, у гомининов из SH выделен неандертальский ядер-ный геном. Однако мнения антропологов о времени, которое можно считать началом существования неандертальцев как таксона, различны. Некоторые антропологи полагают, что неандертальцы появились в Европе уже в середине среднего плейстоцена, а Ф.К. Хауэлл считал возможным рассматривать как неандертальскую даже челюсть из Мауэра [Howell, 1960]. М.-А. де Люмлей отнесла связанные с индустрией ручных рубил антропологические находки древностью 170–150 тыс. лет из Лазаре к развитому H. erectus с признаками неандертализации, которого исследователи назвали преднеандертальцем (Anténéandertalien). Этот гоминин, по ее мнению, имел когнитивные способности, соответствующие концептуальному мышлению, социальной организации. Он был на пути к «всплеску символического мышления» [Lumley M.-A., 2015].
В связи с определением границ начального этапа формирования неандертальского таксона очень показательна дискуссия о таксономической принадлежности окаменелостей, найденных на юге п-ова Пелопоннес. Два черепа древностью ок. 160 тыс. лет были обнаружены в брекчии, заполнявшей пространство между стенами в пещере Апидима А [Pitsios, 1999].
М.-А. де Люмлей относит черепа Апидима 1 и Апи-дима 2, как и человеческие останки из Лазаре, к популяции развитых европейских H. erectus в стадии неандертализации. По ее мнению, они предшествовали классическим неандертальцам [Lumley M.-A., 2019]. Классических неандертальцев в Западной Европе она датирует 120–37 тыс. л.н. Близкой точки зрения на таксономическую принадлежность антропологических находок из пещеры Апидима придерживаются Г. Бройер с соавторами. Они делают вывод: «…Исходя из результатов наших исследований, череп Апидима следует классифицировать как принадлежащий раннему неандертальцу, а основываясь на концепции H. sapiens s.l., таксономически его следует считать H. sapiens neanderthalensis » [Bräuer et al., 2020, p. 1390].
К. Харвати и ее соавторы рассмотрели виртуальные реконструкции обоих черепов вместе с их детальным описанием и результатами анализа морфологических особенностей, а также данными радиометрического датирования по с ериям урана [Harvati et al., 2019]. Исследователи пришли к выводу, что череп Апидима 2 относится к периоду более 170 тыс. л.н. и неандерталоподобному типу. Череп Апидима 1, возраст которого более 210 тыс. лет, демонстрирует смесь особенностей человека современного типа и примитивных черт. Полученные данные позволяют предполагать, что в конце среднего плейстоцена в районе пещеры обитали две группы гомининов: сначала популяция ранних H. sapiens , а затем – неандертальцев. По мнению авторов статьи, результаты исследований говорят о неоднократных миграциях людей современного типа из Африки в Европу [Ibid., p. 500]. Выводы К. Харвати и ее соавторов о таксономической принадлежности Апидимы 1 и Апидимы 2 очень спорные, по скольку не имеется никаких свидетельств столь ранних неоднократных миграций людей современного типа из Африки в Европу.
Из краткого обзора точек зрения на формирование неандертальцев в Европе следует, что окаменело сти финального этапа среднего плейстоцена исследователи относят к пресапиенсам, пренеандертальцам, антенеандертальцам, поздним эректусам на пути неандертализации. Мне не известны антропологические находки древнее 200 тыс. л.н., которые анатомически и генетически можно отнести к неандертальцам. Возможно, окончательно неандертальский таксон сформировался ок. 150 тыс. л.н.
Исходя из имеющихся материалов, я предлагаю следующий сценарий формирования этого таксона. Около 700 (600) тыс. л.н. часть гейдельбергцев с ашельской индустрией с Ближнего Востока (из Леванта) мигрировала в Европу, где она встретилась с H. antecessor. Популяции мигрантов и коренного населения были небольшие, для увеличения численности представители этих двух таксонов ассимилировались друг с другом, в результате рождалось репродуктивное метисное потомство. Почти все выделенные антропологами т.н. виды (Мауэр, Боксгро-ув, Араго, Сима-де-лос-Уэсос, Штейнгейм и др.) являются результатом этого ассимиляционного процесса. Таким образом, это были не отдельные виды, а подвиды – результат эволюционных процессов, связанных с формированием в Европе нового таксона – H. neanderthalensis. Вероятно, в некоторых районах Европы сохранялись небольшие группы с хорошо выраженными эректоидными признаками (Вертешсёлёш в Венгрии), у которых была галечно-отщепная индустрия.
При рассмотрении индустрии гомининов второй половины среднего плейстоцена в Европе важно получить ответ на вопрос о появлении у них ле-валлуазской технологии первичного расщепления. Р. Фоли и М. Лар считают, что эта технология стала известна в Европе благодаря миграции на эту территорию представителей гипотетического таксона – H. helmei [Foley, Lahr, 1997]. У меня другое мнение: ок. 400–350 тыс. л.н. одна часть популяции гейдельбергцев с Ближнего Востока (из Леванта), находившаяся в эволюционном процессе разделения на два линиджа – людей современного типа и палестинских неандертальцев, мигрировала с леваллуазской техникой первичного расщепления в Европу. Первая миграционная волна гейдельбергцев с Ближнего Востока (из Леванта) 700 (600) тыс. л.н. принесла в Европу ашельскую индустрию, а вторая волна 400–350 тыс. л.н. – леваллуазское первичное расщепление. Ориентировочно в этом же хронологическом диапазоне (400–350 тыс. л.н.) вторая часть гейдельбергцев с Ближнего Востока (из Леванта) начала расселяться на восток в Центральную Азию. Если расселение H. heidelbergensis на Ближний Восток ок. 800 тыс. л.н. знаменовало расхождение людей современного типа с неандертальцами и денисовцами, что подтверждается генетическими исследованиями [Reich et al., 2010; Meyer et al., 2012], то миграция одной части гейдельбергцев в Европу, а другой – на восток Азии знаменовала окончательное разделение одной предковой основы (гейдельбергцев) на два таксона – неандертальцев и денисовцев. Секвенирование генома денисовца показало, что разделение популяции на денисовцев и неандертальцев произошло 430–380 тыс. л.н. [Prüfer et al., 2014; Meyer et al., 2014]. Гейдельбергцы, расселяясь в Центральной Азии, ассимилировались с поздними эректусами, что привело к формированию денисовского таксона [Деревянко, 2022].
Генетически и анатомически неандертальский таксон окончательно сформировался ок. 150 тыс. л.н.
Наиболее древняя мтДНК неандертальцев, которая считается базальной относительно всех неандертальцев, была выделена из о станков особи Холен-штайн-Штадель, жившей 124 тыс. л.н. на территории Германии [Posth et al., 2017; Peyrégne et al., 2019]. Считаю необходимым подчеркнуть, что процесс формирования неандертальского таксона занял более 500 тыс. лет и все выделенные промежуточные формы имели разные морфологические признаки, но окончательное анатомическое и генетическое становление неандертальского таксона произошло позже 200 тыс. л.н. Этот процесс происходил в основном на территории Западной Европы – здесь обнаружено больше всего окаменелостей, представляющих промежуточные формы. В Восточной Европе, на Кавказе наиболее ранние о станки неандертальцев имеют древность, не превышающую 100–120 тыс. лет.
До статочно подробный анализ происхождения неандертальского таксона необходим для рассмотрения важной проблемы, поставленной в статье, – обоснованность выделения среди неандертальцев особой группы алтайских неандертальцев.
Алтайские неандертальцы – миф или реальность?
В 1984 г. на Алтае в результате полевых исследований была найдена пещера Окладникова с мустьер-ской индустрией [Деревянко, Маркин, 1992] и антропологическими материалами, секвенирование ДНК которых показало их принадлежность неандертальцам [Krause et al., 2007]. В 2007 г. С.В. Маркин открыл другую пещеру – Чагырскую – также с му-стьерской индустрией и о станками неандертальцев. Миграция классических неандертальцев, получивших наименование чагырских, на Алтай произошла ок. 60 тыс. л.н. [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018]. Кроме этой группы неандертальцев в результате секвенирования ДНК из антропологиче ских находок, а также из образцов, взятых из культуросодержащих отложений, в Денисовой пещере выделена еще одна группа – алтайские неандертальцы.
Полная последовательность генома алтайского неандертальца была получена при изучении окаменелости Денисова 5 (проксимальная фаланга пальца стопы) [Prüfer et al., 2014], обнаруженной в восточной галерее пещеры в подошве культуросодержащего слоя 11.4 древностью 123 ± 7 тыс. лет [Jacobs et al., 2019, p. 594, fig. 3].
М.Б. Медникова, изучавшая находку, пришла к выводу, что данная фаланга пальца стопы больше развита в ширину, чем в высоту [2011а]. Эта особенность отличает гоминина из Денисовой пещеры от большинства современных людей и сближает с плейстоценовыми Homo разной таксономической принадлежности. Кость более массивная и широкая, чем у неандертальцев и анатомически современных сапиенсов. У алтайских неандертальцев фиксируется гипертрофия подошвенных связок и мышц. Исследователь отмечает скошенность суставной площадки в дорсо-проксимальном направлении. У большинства современных людей наблюдается скошенность в проксимальном направлении, что имеет функциональное объяснение – привычка к своеобразному «спортивному», или «марафонскому», бегу [Там же, с. 138]. Эта фаланга, по мнению М.Б. Медниковой, пока находит «ближайшие» морфологические аналогии в строении соответствующих элементов скелета переднеазиатских неандертальцев Шанидар и китайского раннего современного человека Таньюань [Там же, с. 134].
Секвенирование ДНК из Денисова 5 показало его принадлежность неандертальцу. Данная находка позволила исследователям выделить среди неандертальцев особую группу – алтайских неандертальцев [Prüfer et al., 2014]. Как было установлено, линия происхождения неандертальцев приблизительно на 20 % короче, чем линия происхождения денисов-цев. Это дало возможность предположить, что фаланга пальца ноги неандертальца (Денисова 5) древнее фаланги мизинца руки денисовца (Денисова 3) из слоя 11.2 восточной галереи Денисовой пещеры. При сравнении мтДНК особи Денисова 5 с мтДНК других неандертальцев выяснилось, что она наиболее тесно связана с мтДНК ребенка 1 древностью ок. 60–70 тыс. лет из пещеры Мезмайская на Кавказе [Ibid.].
Исследователи выявили в геноме алтайской неан-дерталки несколько длинных гомозиготных участков, указывающих на то, что ее родители были близкими родственниками. По скольку индивид, найденный на Алтае, – женщина и ее Х-хромосома имеет длинный участок гомозиготности, можно предполагать, что обе Х-хромосомы унаследованы от близких общих предков – двух последовательно расположенных в родословной мужчин (отец и дед). Исследователи пришли к выводу, что родители этого индивида были либо единоутробными братом и сестрой, либо двойными двоюродными братом и сестрой, либо дядей и племянницей, тетей и племянником, либо дедом и внучкой, бабушкой и внуком. Такие брачные отношения, по мнению специалистов, были обычными для неандертальцев [Ibid., p. 45].
Секвенирование ДНК позволило исследователям прийти к выводу о том, что гетерозиготность дени-совцев увеличена на тех участках генома, где имеются одна аллель от неандертальца и одна от денисов-ца. Это указывает на поток генов от неандертальцев в популяции денисовцев и на то, что как минимум
0,5 % в геноме денисовца – это вклад неандертальца. Геном денисовца делится бóльшим количеством аллелей с алтайским неандертальцем, чем с неандертальцем Виндия (33.19) из Хорватии или с геномами неандертальцев Кавказа; это позволяет выдвинуть предположение о потоке генов в популяцию денисов-цев от популяции алтайских неандертальцев [Ibid., p. 46–47]. В данной связи считаю необходимым отметить, что этот результат исследования может свидетельствовать не о передаче генов от неандертальцев к денисовцам (это вполне возможно, поскольку у тех и других была открытая генетиче ская система), а об остаточной у денисовцев предковой наследственности от H. heidelbergensis , которая была общей для денисовцев и неандертальцев.
При изучении более 2 тыс. фрагментов ко стей из Денисовой пещеры с использованием метода идентификации по масс-спектрометрическим пептидным картам среди материалов слоя 12 удало сь выявить небольшой фрагмент кости (24,7 мм в длину, 8,39 мм в ширину), принадлежащий гоминину Денисова 11 [Brown et al., 2016]. В ходе предварительного генетического анализа образца Денисова 11 и сопоставления его результатов с доступной полной мтДНК неандертальца выяснилось, что образец из Денисовой пещеры имеет 5 отличий от неандертальца Окладникова 2, 12–17 отличий от неандертальцев Западной и Южной Европы, 31 отличие от находки Мезмайская 1 на Кавказе и от неандертальца Денисова 5 из слоя 11.4 Денисовой пещеры [Brown et al., 2016, p. 4].
Секвенирование мтДНК из образца Денисова 11 показало, что это был гибрид (первого поколения) женского пола, у которого отцом являлся денисовец, а матерью – неандерталка [Slon et al., 2018]. Методом прямого радиоуглеродного датирования установлена дата останков – более 49,9 тыс. л.н. (OxA-33241), при этом косточка была извлечена из слоя 12.3, который накапливался в хронологическом интервале ориентировочно 140–135 тыс. л.н. По толщине компактной ткани исследователи определили, что на момент смерти индивиду Денисова 11 было не менее 13 лет [Ibid.].
Для выделения группы гомининов, из которой произошла о собь Денисова 11, исследователи изучили по фрагментам ДНК, полученным в результате анализа костного материала из Денисовой пещеры, а также генома современных африканцев, соотношение долей аллелей генома алтайского неандертальца (Денисова 5) и денисовца (Денисова 3). На филогенетических информационных сайтах Денисова 11 имела 38,6 и 42,3 % аллелей из генома неандертальцев и денисовцев соответственно, что позволяет утверждать о примерно одинаковом вкладе двух популяций в ее генетический материал [Ibid., p. 113].
По мнению исследователей, маловероятно, что геномы алтайского неандертальца (Денисова 5) и де-нисовца (Денисова 3) были идентичны геномам индивидов, которые внесли свой вклад в генетический материал особи Денисова 11. Поэтому было проведено несколько экспериментов, результаты которых позволили предположить, что у отца Денисова 11 была некоторая доля неандертальского предкового генетического материала. Скорее всего, в его генеалогии был не один неандертальский предок. Следует отметить, что гетерозиготность на участках неандертальского происхождения у образца Денисова 11 выше, чем на таких же участках у Виндия 33.19 или у алтайского неандертальца (Денисова 5); это позволяет предположить, что неандертальские предки отца и матери Денисова 11 принадлежали разным популяциям.
В связи с последними выводами предлагаю другое решение этой проблемы. Как отмечалось, неандертальское геномное наследие у отца Денисова 11 является результатом не непосредственного скрещивания с неандертальцами, а сохранения предковой остаточной ДНК. Неандертальская мать особи Денисова 11 происходила не из алтайских неандертальцев, а из более поздних классических европейских неандертальцев, чагырских.
Для выяснения того, как мать Денисова 11 связана с двумя неандертальцами (Денисова 5 и Вин-дия 33.19), чьи геномы в настоящее время секвениро-ваны с высоким покрытием, исследователи изучили те части фрагментов материала Денисова 11, которые соответствовали производным аллелям любого из этих двух геномов неандертальцев. В геноме Денисова 11 общие производные аллели с геномом алтайского неандертальца (Денисова 5) составляют 12,4 %, тогда как в геноме Виндия 33.19 этот показатель достигает 19,6 %, указывая на то, что мать Денисова 11 происходит из популяции, которая ближе к Виндия 33.19, чем к алтайским неандертальцам. Подтверждением того, что мать особи Денисова 11 принадлежит не к алтайским неандертальцам, а к поздним классическим неандертальцам, а если иметь в виду Алтай, то к чагырским неандертальцам, являются результаты секвенирования мтДНК из образца Чагырская 8. Было установлено, что Ча-гырская 8 имеет больше производных аллелей, чем Виндия 33.19, с матерью особи Денисова 11. Более того, особь Чагырская 8 среди известных в настоящее время неандертальцев генетически наиболее тесно связана с матерью Денисова 11 [Mafessoni et al., 2020, p. 15133].
На основе краткого обзора данных о генетических и морфологических особенностях алтайских неандертальцев можно сделать вывод о том, что малочисленность сведений пока не позволяет достаточ- но полно охарактеризовать этот таксон. Прежде всего встает вопрос о том, когда и откуда мигрировали т.н. алтайские неандертальцы, которые генетически отличаются от чагырских неандертальцев, хотя проявляют некоторое сходство с ними.
Большим достижением палеогенетиков Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге является разработанная под руководством Сванте Паабо методика выделения мтДНК непосредственно из отложений культуросодержащего слоя [Slon et al., 2017].
Вынужден отметить, что наши коллеги генетики, с которыми нас связывает многолетнее сотрудничество, не знакомятся с результатами исследований археологов, а при обсуждении совместных статей их почти невозможно убедить в справедливости и обоснованности нашей точки зрения, если она не отвечает результатам секвенирования. Разногласия возникают из-за недостатка веских доказательств в пользу того или иного мнения, а чаще из-за убежденности исследователей, представляющих разные научные направления, в бóльшей значимости своих выводов.
Палеогенетика, безусловно, имеет большое значение для решения проблем эволюции рода Homo и происхождения человека современного типа. Но эта отрасль молекулярной биологии еще очень молода. Ее исследовательские методы постоянно совершенствуются, появляется новая приборная база, которая позволяет извлекать максимальное количество информации о ДНК из изучаемой окаменелости, а в последнее время и о ДНК, полученной непосредственно из литологического слоя.
В Денисовой пещере неандертальская ДНК была выделена из культуросодержащих отложений центрального зала, сформировавшихся 168–86 тыс. л.н. (слои 19, 17 и 14), восточной галереи – 205– 172 тыс. л.н. (слой 14), а также из окаменелостей, найденных в восточной галерее (Денисова 9 древностью 118–150 тыс. лет и Денисова 5 древностью 93–132 тыс. лет) [Jacobs et al., 2019, p. 596].
Для решения проблемы существования алтайских неандертальцев чрезвычайно важно рассмотреть вопрос о времени их первоначального заселения Денисовой пещеры. З. Якобс и ее соавторы приводят сведения о выделении неандертальской мтДНК из слоя 14 восточной галереи древностью 193 ± 12– 187 ± 14 тыс. л.н. [Jacobs et al., 2019, p. 596, fig. 3]. Е. Завала с соавторами отнесли образец из слоя 14 к слою 11.4 [Zavala et al., 2021]. Остаются непонятными причины, по которым исследователи перенесли образец из слоя 14 в слой 11.4. Они делают ссылку на дополнение 1 к статье, в котором должно быть соответствующее разъяснение, но в нем также не приводятся аргументы, обосновывающие такую поправку. Более того, в другой статье, посвященной отбору образцов из стратиграфической последовательности для эндогенного анализа и результатам этого анализа, сообщается о выделении мтДНК неандертальца из слоя 14 [Slon et al., 2017].
В статье З. Якобс сделан вывод о том, что пещера была заселена денисовцами в период между 287 ± 4 (или как минимум 203 ± 14) и 59 ± 6 тыс. л.н. и позднее, а в период между 193 ± 12 и 97 ± 11 тыс. л.н. в ней расселялись неандертальцы [Jacobs et al., 2019, p. 597]. К. Доука с соавторами также приходят к выводу о том, что в конце теплой стадии МИС 7 (ок. 190 тыс. лет) в Сибири расселялись неандертальцы [Douka et al., 2019, p. 644].
Исследователи обращают внимание на «наличие неандертальской мтДНК в отложениях древнее 175 тыс. лет» [Zavala et al., 2021, p. 403]. Таким образом, неандертальцы стали расселяться в пещере с денисовцами ранее 175 тыс. л.н. Считаю необходимым привести еще один вывод исследователей – о том, что в отложениях, относящихся к хронологическому диапазону 130–100 тыс. л.н. (а возможно, и в течение более длительного периода с учетом перерыва в осадконакоплении, зафиксированного в интервале 97–80 тыс. л.н.), в Денисовой пещере выявлены мтДНК и ископаемые останки, принадлежащие только неандертальцам [Ibid., p. 401].
Генетический возраст наиболее полной последовательности мтДНК неандертальца из центрального зала (образец М65) со ставляет 140 тыс. лет [Ibid., p. 401]. У особи Денисова 11 мать произошла из популяции, которая имела близкие связи с неандертальцами, обитавшими в Европе (Виндия 33.19), а не с более ранними неандертальцами из Денисовой пещеры; это свидетельствует о миграциях неандертальцев из восточной и западной частей Евразии, происходивших после 120 тыс. л.н. [Slon et al., 2018, p. 113].
Можно привести и другие аргументы генетиков, подтверждающие вывод о возможном обитании алтайских неандертальцев в Денисовой пещере в конце среднего плейстоцена. Главное, в чем убеждены на основании генетических исследований специалисты: 1) неандертальцы стали жить в пещере ранее 175 тыс. л.н.; 2) неандертальцы и денисов-цы заселяли пещеру последовательно, сменяя друг друга; 3) были длительные периоды, когда в пещере обитали исключительно алтайские неандертальцы; 4) создателями среднепалеолитической индустрии Денисовой пещеры могли быть денисовцы и неандертальцы.
Все эти четыре вывода противоречат материалам, полученным при раскопках Денисовой пещеры и других палеолитических стоянок на Алтае, а также сведениям, которые мы имеем о происхождении неандертальцев, их материальной культуре и рас- селении в Евразии в целом. Рассмотрим некоторые из выводов.
Неандертальцы сформировались анатомически и генетиче ски в Западной Европе не ранее 200– 150 тыс. л.н. У них выявлена мустьерская индустрия, для которой, по мнению исследователей, несмотря на большую вариабельно сть, характерны особые способы первичного расщепления, типы орудий и технические приемы их изготовления. Расселение представителей неандертальского таксона из Западной Европы на восток Евразии протекало медленно вследствие их малочисленности. Для преодоления огромного расстояния в несколько тысяч километров до Алтая требовалось длительное время. Пока нигде в Восточной Европе и западных районах Азии не обнаружено останков неандертальцев древнее 100–120 тыс. лет. Пожалуй, наиболее ранней неандертальской окаменелостью является зуб из культуросодержащего слоя 5в пещеры Матузка на Кавказе, но геохронология этих отложений остается спорной. Для этого слоя дата не была получена, но возраст вышележащего слоя 4д определен в 191 ± 29 тыс. лет (LU), для нижележащего слоя 7 получена определенная методом ИК-ОСЛ дата 80,1 ± 8,3 тыс. л.н. (RLQG-2497-048), а для слоя 6 – 77,5 ± 6,1 тыс. л.н. (RLQG-2498-048) [Голованова и др., 2022, с. 174]. Следовательно, древность этой окаменелости не более 100 тыс. лет.
В Центральной Азии и на Урале, т.е. на возможном транзитном пути расселения неандертальцев, нет ни одной стоянки с мустьерской индустрией и тем более антропологических материалов этого таксона древнее 100 тыс. лет. Единственная находка – ко стные останки неандертальского ребенка из пещеры Тешик-Таш в Узбекистане – моложе 70 тыс. лет. Таким образом, весь накопленный археологический материал свидетельствует о том, что предположение о расселении в Денисовой пещере алтайских неандертальцев 175–150 тыс. л.н. не имеет никаких доказательств.
Археологические материалы убедительно доказывают, что обнаруженная в самом нижнем археологическом слое 22 ранняя среднепалеолитическая индустрия принадлежала денисовцам. В результате сорокалетних раскопок в Денисовой пещере накоплен огромный материал [Деревянко, Шуньков, Агаджанян и др., 2003; Деревянко, 2022; и др.]. Уникальность Денисовой пещеры заключается в том, что в ней выделены 14 культуросодержащих слоев в трех «помещениях»: центральном зале, восточной и южной галереях. Культуросодержащие слои различаются по насыщенности каменными орудиями, костями диких животных. Слои, относящиеся к верхнему палеолиту, содержат также изделия из кости и различного рода персональные украшения из камня, кости, раковин. По находкам из культуросодержащих слоев выделены пять этапов развития каменной индустрии: ранний, средний и финальный среднего палеолита, переходный от среднего к верхнему палеолиту и начальный верхнего палеолита. И самое главное: весь инвентарь, выявленный в Денисовой пещере, представляет собой гомогенный комплекс, в котором четко прослеживается преемственность в развитии индустрии всех этапов среднего палеолита, переходного этапа от среднего к верхнему и начального этапа верхнего палеолита. И вся эта индустрия создана денисовцами, по скольку они приняли участие в формировании человека современного типа, их следует обозначать как H.s. altaiensis [Деревянко, 2012, 2019; и др.].
О непрерывности эволюции каменной индустрии Денисовой пещеры свидетельствует ее гомогенность; нет никаких оснований для предположения об обитании в пещере представителей другого таксона – алтайских неандертальцев – с другой индустрией. У денисовцев и неандертальцев в среднем палеолите были совершенно разные индустрии, и заселение Денисовой пещеры неандертальцами с другой индустрией сразу же привело бы к смене технико-типологического комплекса каменного инвентаря. Поэтому утверждение о длительном проживании в пещере неандертальцев, тем более выделение определенных периодов, когда в пещере могли жить только неандертальцы, полностью опровергаются археологическим материалом. На основании результатов секвенирования ДНК исследователи делают вывод о том, что в хронологическом диапазоне 130–100 тыс. л.н. в Денисовой пещере обитали только неандертальцы [Jacobs et al., 2019; Zavala et al., 2021]. В восточной галерее Денисовой пещеры к этому интервалу относятся культуросодержащие слои 12.3, 12.2, 12.1 и 11.4, в которых обнаружены окаменелости денисовца (Денисова 8), алтайских неандертальцев (Денисова 9, Денисова 5) и гибрида (Денисова 11); в центральном зале – слои 17, 14.3, 14.2, 14.1, из отложений которых выделена мтДНК алтайских неандертальцев. У исследователей Денисовой пещеры нет сомнения в том, что индустрия из всех перечисленных культуросодержащих слоев гомогенная, относится к денисовской среднепалеолитической и совершенно отличается от мустьерской. Все археологические материалы свидетельствуют о пребывании в Денисовой пещере в указанный период только денисовцев со своей среднепалеолитической индустрией.
В связи с тем, что выявляются существенные противоречия в результатах генетических и археологических исследований, мною было высказано следующее предположение [Деревянко, 2019, 2022]. Денисов-цы и неандертальцы формировались на одной пред- ковой основе – H. heidelbergensis; их представители с ашельской индустрией мигрировали ок. 800 тыс. л.н. из Африки в Евразию. У денисовцев и неандертальцев процесс морфологического и генетического формирования занял более 500 тыс. лет. Причем, мигрируя в Евразии, они ассимилировались с поздними эрек-тусами. В ходе формирования генетической последовательности у денисовцев и неандертальцев длительное время частично сохранялось предковое наследие. Об этом свидетельствуют результаты секвенирования ДНК гомининов из местонахождения Сима-де-лос-Уэсос в Испании древностью более 400 тыс. лет: их мтДНК оказалась близка к денисовской, а ядер-ная – к неандертальской [Meyer et al., 2014, 2016]. При формировании генетиче ского наследия у денисов-цев также длительное время могла сохраняться часть предкового геномного наследия.
Важными доказательствами, на которых основано предположение о проживании в пещере неандертальцев, являются две находки: фаланга пальца ноги (Денисова 5) из слоя 11.4 и маленькая косточка гибрида (Денисова 11), рожденного от отца-де-нисовца матерью-неандерталкой, из слоя 12.3. Появление этих окаменелостей в культуросодержащих слоях 12.3 и 11.4 можно объяснить только постде-позиционными нарушениями стратиграфической последовательности, в результате которых данные материалы попали в нижележащие слои из верхних. Данную версию поддерживают результаты секвенирования ДНК Денисова 11; согласно им, мать данного индивида происходит из популяции, которая ближе к Виндия 33.19, чем к алтайским неандертальцам [Slon et al., 2018, p. 115]. Это позволяет говорить о возможной ассимиляции отца-денисов-ца с матерью, происходившей из популяции чагыр-ских неандертальцев, которая мигрировала на Алтай из Европы ок. 60 тыс. л.н. [Деревянко, Маркин, Колобова и др., 2018]. Более того, особь Чагырская 8 генетически наиболее тесно связана с матерью Денисова 11 [Mafessoni et al., 2020, p. 15133], что предполагает ее происхождение из чагырских неандертальцев. По заключению генетиков, разделение между популяцией, к которой принадлежала мать Денисова 11, и популяцией Денисова 3, произошло приблизительно за 7 тыс. лет до рождения последнего, т.е. ок. 60–55 тыс. л.н. [Jacobs et al., 2019].
Особь Денисова 11 была женского пола, как и особь Денисова 5. Очень вероятно, что в Денисову пещеру попадали только женщины из чагыр-ской группы неандертальцев. Основанием для такого предположения является отсутствие в пещере 60– 40 тыс. л.н. мустьерской индустрии. На возможность проникновения в нижележащие слои небольших фрагментов окаменелостей из вышележащих слоев указывают депозиционные стратиграфические изме- нения. Так, исследователи отмечают, что образец Денисова 11 очень небольшого размера и мог переместиться из вышележащего слоя [Zavala et al., 2021].
Таким образом, все приведенные аргументы позволяют сделать следующий вывод: выделение на основании генетических исследований в Денисовой пещере алтайских неандертальцев не подтверждается археологическими материалами из Денисовой пещеры и из других среднепалеолитических стоянок Алтая, а также результатами изучения анатомии и генома неандертальского таксона в Западной Европе и времени его расселения в Евразии.
Заключение
Для решения многих проблем эволюции рода Homo , формирования новых таксонов, расселения их в Европе, взаимоотношений коренного населения и мигрантов важнейшее значение имеет творческий союз представителей четырех научных направлений – археологов, антропологов, палеогенетиков и геохронологов. При проведении междисциплинарных исследований чрезвычайно важно проявлять уважительное отношение к результатам работ своих коллег, особенно при обсуждении дискуссионных вопросов.
Я неоднократно отмечал, что благодаря творческому сотрудничеству Сванте Паабо и его команды с нашим институтом сделан целый ряд важных открытий. Самое главное из них – выявление нового таксона – денисовцев. Творческое взаимодействие ученых важно и эффективно, и оно может быть еще более плодотворным, если при обсуждении конечных выводов нашими коллегами будут в полной мере учитываться результаты археологических исследований.
В основу данной статьи положен вывод о возможности гомининов на протяжении всей почти трехмиллионнолетней эволюции рода Homo сохранять открытой генетическую систему и способность скрещиваться и рождать фертильное потомство. Этот вывод сделан на основании того, что на заключительном этапе филогенетической истории рода Homo , 200–100 тыс. л.н., выделились три таксона: ранние люди современного типа в Африке, H. sapiens neanderthalensis в Европе, H. sapiens denisovan в Центральной и Северной Азии. Представители этих таксонов скрещивались между собой и у них рождалось фертильное потомство. И это была не межвидовая, а внутривидовая ассимиляция. Следовательно, и во время всего эволюционного процесса от H. erectus до H. sapiens sapiens у гомининов оставалась открытой генетическая система и была способно сть к ассимиляции, в результате которой рождалось фертильное потомство.
Дискуссионными, с моей точки зрения, остаются выделение, основанное преимущественно на результатах генетических исследований, алтайских неандертальцев, мигрировавших на территорию Южной Сибири из Европы ранее 175 тыс. л.н., и возможность их попеременного обитания в Денисовой пещере с денисовцами. Свои выводы я сделал на основании археологических реалий и надеюсь, что будущие исследования позволят решить эту проблему.
У неандертальцев и денисовцев была одна предковая форма – H. heidelbergensis , которая сформировалась в Африке ок. 900 (800) тыс. л.н. на предковой основе поздних эректусов. В это же время гейдельбергцы с ашельской индустрией мигрировали в Евразию, на Ближний Восток. Часть гейдельбергцев 700 (600) тыс. л.н. с ашельской индустрией начала расселяться в Европе, где в результате ассимиляции с коренным населением ( H. antecessor ), естественного отбора, региональной специфики гомининов 200–150 тыс. л.н. произошло формирование нового таксона – H.s. neanderthalensis .
-
1. В столь раннее время неандертальцы не могли расселяться так далеко на восток вплоть до Алтая от своего центра формирования в Западной Европе, потому что анатомическое и генетическое становление этого таксона произошло не ранее 200–150 тыс. л.н. Тем более в Восточной Европе не обнаружены антропологические останки неандертальцев и стоянки с мустьерской индустрией древнее 100–120 тыс. лет, а на транзитной территории Центральной Азии известны только антропологические останки ребенка из пещеры Тешик-Таш моложе 70 тыс. лет. Расселение неандертальцев ранее 100 тыс. л.н. на Алтае было возможно при существовании чартерных рейсов по маршруту Западная Европа – Денисова пещера.
-
2. Заселение Денисовой пещеры одновременно или попеременно денисовцами и алтайскими неандертальцами, более того, обитание в ней 130– 100 тыс. л.н. только неандертальцев должно было подтверждаться наличием в пещере двух разных по технико-типологическим характеристикам индустрий – среднепалеолитической денисовской и му-стьерской неандертальцев. В стратиграфической последовательно сти Денисовой пещеры (слои 22–11) четко прослеживается преемственность в развитии среднепалеолитической индустрии от раннего этапа (300 тыс. л.н.) до начального верхнего палеолита древностью 55 (50)–45 тыс. л.н. И совершенно нет никаких оснований для утверждения о наличии в стратиграфической последовательности пещеры мустьерской индустрии; возможность проживания в ней представителей какого-то другого таксона, кроме денисовцев, исключена. Только с появлением на Алтае чагырских неандертальцев ок. 60 тыс. л.н.
-
3. Единственное объяснение появления мтДНК неандертальцев в культуросодержащих слоях Денисовой пещеры – своеобразие анатомического и генетического формирования неандертальского и денисовского таксонов. Оба они имели одну предковую основу – H. rhodesiensis/heidelbergensis . Она сформировалась в Африке ок. 900 (800) тыс. л.н., затем часть ее ( H. heidelbergensis ) с ашельской индустрией ок. 800 тыс. л.н. начала расселяться на Ближнем Востоке (Гешер-Бенот-Яаков). Позднее 700 (600) тыс. л.н. часть популяции гейдельбергцев с ашельской индустрией мигрировала в Европу и встретила там коренное население H. antecessor . В процессе ассимиляции этих двух таксонов, естественного отбора, адаптации к меняющимся природно-климатическим условиям в Европе в течение 500 тыс. лет сформировался 200–150 тыс. л.н. новый таксон H.s. neanderthalensis . В процессе образования неандертальского таксона у него происходило наращивание производных неандерталоидных морфологических признаков и формирование неандертальской генетической последовательности. Вместе с тем у неандертальцев длительное время сохранялась небольшая часть предкового генетического наследия. Это подтверждается результатами секвенирования мтДНК гомининов из Сима-де-лос-Уэсос (Испания) древностью более 400 тыс. лет. У этих го-мининов мтДНК была денисовская (хотя денисовцы никогда не расселялись в Европе), а ядерная ДНК – неандертальская.
стала возможной их ассимиляция с коренным населением – денисовцами.
Гейдельбергцы с Ближнего Востока 400– 350 тыс. л.н. начали расселяться на во сток Азии. В Центральной Азии они встретились с коренным населением – поздними эректусами, в результате ассимиляции двух таксонов, естественного отбора, адаптации к меняющимся природно-климатическим условиям на протяжении 300–200 тыс. лет сформировался новый таксон – H.s. denisovan . Мы пока не знаем его морфологию. Однако известно, что в формировавшейся генетической последовательности нового таксона сохранялась часть предкового наследия; именно это нашло отражение в выделенной в культуросодержащих слоях пещеры мтДНК неандертальцев. В образце, извлеченном из слоя 15 восточной галереи, в денисовской геномной последовательности обнаружено 5 % генетического наследия неандертальца [Slon et al., 2017, p. 3], что свидетельствует о сохранении в формировавшемся таксоне денисовцев неандертальской не только мтДНК, но и ядерной ДНК.
Предложенные мной сценарий генезиса денисовского таксона и объяснение причин выделения мтДНК неандертальцев в отложениях Денисовой пещеры вступают в противоречие с результатами генетических исследований. Но имеющиеся археологические материалы исключают возможность выделения на Алтае, кроме чагырских, еще одной группы неандертальцев – алтайских.
Подтверждением предположения о заселении Денисовой пещеры алтайскими неандертальцами считается обнаруженная в слое 12.3 миниатюрная косточка индивида Денисова 11, у которого отец был денисовцем, а мать – неандерталкой. Нахождение этого образца в слое 12.3 объясняется депозиционны-ми стратиграфическими нарушениями. Древность находки 50–60 тыс. лет. Это определение подтверждает предположение о том, что мать гибрида Денисова 11 генетически близка не к алтайским, а к чагырским неандертальцам. Особь Чагырская 8 среди известных в настоящее время неандертальцев наиболее тесно связана с матерью Денисова 11 [Mafessoni et al., 2020, p. 15133]. Мигрировавшие из Европы неандертальцы ок. 60 тыс. л.н. скрещивались с денисовцами, и у них рождалось фертильное потомство. Секвенированная мтДНК из женской фаланги четвертого или пятого пальца ноги (Денисова 5), которая была обнаружена в слое 11.4 восточной галереи Денисовой пещеры, при сравнении с мтДНК других неандертальцев показала наиболее тесную связь с мтДНК ребенка из пещеры Мезмайская-1 (Кавказ) древностью ок. 60 тыс. лет. Не исключено, что эта особь также принадлежала к поздним классическим европейским неандертальцам. Она, как и Денисова 11, происходит из вышележащего слоя. На основании археологических материалов можно сделать вывод: выделенные на основе генетических исследований алтайские неандертальцы – миф, а не реальность.