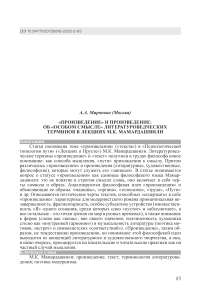«Произведение» и произведение: об «особом смысле» литературоведческих терминов в лекциях М. К. Мамардашвили
Автор: Миронова А.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена теме «произведения» («текста») в «Психологической топологии пути» («Лекциях о Прусте») М.К. Мамардашвили. Литературоведческие термины «произведение» и «текст» получили в трудах философа новое понимание: как способа мышления, «пути» прихождения к смыслу. Притом различались «произведение» и произведения (литературные, художественные, философские), которые могут служить его «записью». В статье поднимается вопрос о статусе «произведения» как единицы философского языка Мамардашвили: это не понятие в строгом смысле слова, оно включает в себя черты символа и образа. Анализируются философская идея «произведения» и объясняющие ее образы: «машины», «органа», «телескопа», «труда», «Пути» и др. Описываются поэтические черты текстов, способных «содержать» в себе «произведение»: характерные для модернистского романа принципиальная незавершенность, фрагментарность, особое субъектное устройство (множественность «Я» одного сознания, среди которых одно «пустое» и «абсолютное», а все остальные - его точки зрения на мир в разных временах), а также внимание к форме (слово как «вещь», вне своего значения; подчиненность художника стилю как «внутренней гармонии») и музыкальность литературы (поэтика мотивов, «встреч» и символистских «соответствий»). «Произведение», таким образом, не тождественно произведению, но понимание этой философской идеи выводится из концепций литературного и художественного творчества, а она, в свою очередь, проецируется на писательские и читательские практики как на частный случай мышления.
М.к. мамардашвили, произведение, текст, терминология литературоведения, поэтика модернизма
Короткий адрес: https://sciup.org/149148634
IDR: 149148634 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-83
Текст научной статьи «Произведение» и произведение: об «особом смысле» литературоведческих терминов в лекциях М. К. Мамардашвили
M.K. Mamardashvili; literary work; text; terminology of literary studies; poetics of modernism.
Тема «произведения» (или «текста», термины не различались) стала одной из ключевых в обоих курсах «Психологической топологии пути» («Лекций о Прусте») Мераба Константиновича Мамардашвили. «Произведение» отвечало на вопрос: «Как сознанию прийти к некой точке, в определенное место, состояние?» Оно выступало как «путь» мышления, нечто подобное методу для решения «жизненных» («метафизических», эпистемологических, этических) задач. Термины «произведение», «текст», «искусство», «литература», перенесенные в область философского исследования проблем сознания, получили новый, «особый» смысл (общий для всех этих слов). Он описывался на материале романа М. Пруста «В поисках утраченного времени», произведений Данте, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, В.В. Набокова, Р. Музиля, Дж. Джойса, У. Фолкнера, А. Арто, П. Сезанна, К.С. Малевича и др. Однако Мамардашвили говорил о необходимости отличать «тексты сознания» от текстов в обычном смысле: «…произведение не совпадает или совпадает чисто формально с написанной книгой. <…> то, что называется книгой, есть просто запись, которой может не быть, – например, можно создать произведение и не написать книгу» [Мамардашвили 2014, 610] (курсив наш. – А.М.). Вместе с тем «про- изведение» оказывалось связано со своей «записью» и, что примечательно, с поэтикой соответствующих текстов (ср.: [Мамардашвили 1995, 12–13]).
В данной статье мы опишем «произведение» в «особом смысле», предложенном Мамардашвили, а также последим связь между этой философской идеей и поэтикой литературных произведений, которые ее воплощают. (Наличие / отсутствие кавычек поможет различать два разных понимания одних и тех же слов). Однако предварительно уточним статус «произведения»: его лучше рассматривать как «понятие», или «философский образ», или «символ»?
«Произведение» – что?
«Произведение – это понятие, которое в “поздних” работах М.К. Мамардашвили обозначает…» – возможно, такое начало ответа на вопрос подзаголовка будет наиболее простым и не вызовет возражений. Понятием «произведение» назвали, например, исследователи Ю.В. Пущаев [Пущаев 2018, 51] и Д.Г. Рындин [Рындин 2020, 87]. Однако особенность философского языка Мамардашвили заключается в том, что этот язык преимущественно не понятийный. А.В. Ахутин описывал его следующим образом:
Язык M. М. лишен понятий в строгом смысле слова. Пожалуй, M. М. даже сознательно их избегает. Его речь держится своими оборотами и словечками, символическими примерами-притчами, метафорами. Порой кажется, что и классические понятия (cogito, «априори», «редукция») – лишь метафоры в его устах, точно так же, как евангельские сюжеты, стихи, физические теории [Ахутин 1998, 30].
То есть понятия и термины, во-первых, в целом использовались редко (Мамардашвили даже «извинялся» за них перед студентами [Мамардашвили 2014, 27]). Во-вторых, происходил «сдвиг» значения: в дополнение к общепринятому или вместо него слова получали новый смысл (ср.: «…мы не должны, услышав слово, спешить понять его по тому значению, которое оно нормально имеет, хотя это значение невозможно отменить» [Мамардашвили 2014, 66]). Д.Г. Рындин определил это отношение к терминам как «полу-понятия–полу-метафоры» [Рындин 2020, 100], а В.Ю. Файбышенко писала, что у Мамардашвили «словоупотребление, скорей, символично, чем понятийно» [Файбышенко 2013, 9]. На последней оценке стоит остановиться, так как категория символа сама по себе была для Мераба Константиновича предметом философского осмысления и, на наш взгляд, она объясняет связь «произведения» с произведениями.
«Символ» у Мамардашвили (тоже слово «со смещающимся в зависимости от употребления центром») мыслился как «собственное средство осуществления сознания (в противоположность привычному понятию)» [Файбышенко 2013, 9–10]. Подробно данная категория была рассмотрена в книге Д.Э. Гаспарян [Гаспарян 2013, 192–259]. В рамках нашей темы важны два пункта из этого обширного анализа. Во-первых, «символ» определяется как косвенное указание на структуры сознания, недоступные для прямого, предметного описания [Гаспарян 2013, 194–197]. А «произведение» есть совокупность сознательных актов, и оно включает в себя «тайную активность», невидимую («темную») для самого сознания [Мамардашвили 2014, 140]. Можно сказать, что «произведением» эта деятельность символизируется. Во-вторых, Д.Э. Гаспарян рассма- тривала «символ» как способ обобщения без абстрагирования (свойственного понятию), то есть обобщения, содержащего в себе конкретные черты отдельных объектов [Гаспарян 2013, 222–231]; как «модель» или «схему», по которой конструируются частные предметы [Гаспарян 2013, 225]. В лекциях главным образом два текста соотносятся с «произведением»: это роман Пруста и сами лекции как философское произведение. Эти тексты репрезентируют нечто, что может не относиться ни к литературе, ни к философии, а из их свойств как бы «собираются» черты «произведения». Мы не утверждаем, что «произведение» нужно однозначно определять как «символ» (тем более что мы обратились лишь к двум характеристикам «символа» у Мамардашвили), однако это позволяет, на наш взгляд, объяснить отношение «произведения» и к сознанию (то есть к автору и читателю), и к литературным произведениям.
Подчеркнуть специфику «произведения» как элемента философского языка Мамардашвили может термин «понятие-образ» (введен И.А. Герасимовой), примененный А.П. Алексеевым к творчеству Н.А. Бердяева [Алексеев 2011, 42–44]. А.П. Алексеев «понятие-образ» (философии) рассматривает как то, что не имеет четкой дефиниции и соединяет в себе черты понятия и образа: «…все утверждаемое автором служит раскрытию содержания понятия философии, и одновременно – созданию образа философии» [Алексеев 2011, 43]. Подобное определение применимо и к «произведению», в котором сочетаются абстрактно-понятийный и образный элементы: его смысл задается как философскими терминами, так и ассоциативно, через сравнения и образы.
Мы не станет однозначно определять статус «произведения» в лекциях Мамардашвили. Однако далее нам пригодятся выделенные черты «символа» и «понятия-образа»: косвенное указание на «темную» работу сознания, особый символический способ обобщить (или предопределить) свойства текстов, единство понятийного и образного.
«Произведение» – какое оно?
Строгих дефиниций в лекциях Мамардашвили нет. В «подступах» к определению «произведения» часто встречаем осторожные формулировки: «произведение есть нечто такое , что…» [Мамардашвили 1995, 23], « какие-то вещи , пока условно называемые мною произведениями» [Мамардашвили 1995, 318] (курсив мой. – А.М. ) и т.п. Чтобы выразить смысл этого «полупонятия», Мераб Константинович применял слова «конструкция», «машина», «механизм», «инструмент», «телескоп», «орган», «форма», а также «труд», «работа», «путь». Рассмотрим эти и другие ключевые слова, создающие философский образ «произведения».
«Конструкция», «машина» и «механизм» помогают понять «произведение» как «искусственное» образование, которое «строится» человеком и впоследствии некоторым образом «работает». Этот же смысл заключен в выражении «opera operans», «производящее произведение»: то, что «произведено» и, в свою очередь, «производит» [Мамардашвили 1995, 336]. Суть самой «работы» задается следующими формулировками: «машина рождения» [Мамардашвили 1995, 31], «машина изменения самого себя» [Мамардашвили 1995, 354], «познание есть некоторая конструкция, некоторое построение» [Мамардашвили 1995, 145], «мыслил бы не Гюго, а им скомпонованная и сбитая конструкция; она внутри себя должна порождать новые мысли» [Мамардашвили 1995, 542] и др. То есть «продуктом» являются состояния («события») сознания: мысли, чувства, акты понимания и т.д. Аналогичные смыслы вводятся словом «орган»: он либо что-то «производит», либо позволяет «увидеть». В первом случае «произведение» сравнивалось с печенью: если печень вырабатывает желчь, то особый «орган» – «какую-то другую жизнь» [Мамардашвили 1995, 24]. Во втором случае проводилась аналогия между «произведением» и глазами:
Своими физическими, природными глазами я вижу одно, а глазами произведения я вижу другое. Глубже, иначе вижу. То, что не вижу естественными глазами, я вижу изображениями – они мои глаза, мои органы [Мамардашвили 1995, 313].
Стоит отметить, что «органическое» и «механическое» здесь не противопоставляются: эти «машины» или «глаза» являются дополнительными по отношению к «естественному» течению сознания – «неорганизованному», движимому «автоматизмами» психики. Еще один общий смысл: и «механизмы», и «органы» «работают» сами собой, « непроизвольно ». Два образных ряда смыкаются в образе «телескопа»: он позволяет рассмотреть удаленные крупные объекты, которые кажутся малыми [Мамардашвили 2014, 44]. При помощи «произведения» в мелочах индивидуальных «впечатлений» усматриваются большие, надсубъектные структуры сознания. Встречается и образ «фонарика», высвечивающего глубины сознания [Мамардашвили 1995, 167]. Сравнение с глазами, телескопом и фонариком несет в себе еще одну общую идею: они направлены на «что-то другое», но не видят или не освещают сами себя (ср.: «…текст не есть нечто, что мы читаем <…>, текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие» [Мамардашвили 2014, 49–50]).
«Произведение» в качестве «формы» («живой формы») «со-держит», упорядочивает сознание и удерживает его от «рассеяния». «Форма» противопоставляется намерению или «желатину» чувств [Мамардашвили 1995, 207]. Это различие образно «схватывается» через сравнение мечты о полете с реально взлетающим самолетом [Мамардашвили 1995, 265–266]. «Форма» «материальна»: «произведение» есть нечто формализованное, артикулированное, даже если оно «в голове» (Мамардашвили приводил высказывание, найденное им у С. Малларме: «Поэмы пишутся не идеями, а словами» [Мамардашвили 1995, 289]). Она завершена («индивидуальна», «неделима»), так как акт «схватывания» смысла требует остановки и вместе с тем бесконечно «порождает» состояния и смыслы. Этим объясняется, в частности, возможность множественной интерпретации литературных произведений [Мамардашвили 1995, 267–268]. Также «форма» «динамична», а не «стату-арна» [Мамардашвили 1995, 264], так как речь идет о деятельности сознания (ср.: «…текст <…> складывается в качестве текста актом его чтения» [Мамардашвили 1995, 389]). Идею «формы» развивает образ «собора» как «пространства», в котором «события» порождаются «симметрией» («гармонией») его устройства [Мамардашвили 1995, 146]. Пространственный и одновременно музыкальный образ с тем же смыслом – «ящик резонансов» [Мамардашвили 2014, 338]. Он заменялся образом зеркала, «которое поставлено перед жизненным путем», «по отражениям в котором исправляется путь» [Мамардашвили 2014, 452]. С идеей «формы» связано и представление о «произведении» как «живом существе» («организованном существе, в отличие от нас, неорганизованных» [Мамардашвили 1995, 542]): оно «живет» в людях и «порождает» состояния. Для выражения этих же смыслов использовались образы «природы как книги» и «книги как природы» [Мамардашвили 1995, 146–147].
«Произведение» как совокупность актов сознания определялось через сравнение с «работой», «трудом», «испытанием». У этого «делания» две цели – или можно сказать, что цель одна, но она представлена в двух разных временных масштабах. Во-первых, привести сознание в движение по «пространству событий» (противопоставлено «безразличному пространству» [Мамардашвили 2014, 45]) и в конце концов «сдвинуть» его в «когитальное состояние» [Мамардашвили 1995, 336] (то есть полноту «личного» присутствия, подлинное переживание «самих вещей», «место», где «рождаются» состояния, смыслы и т.д.; см.: [Ахутин 1998, 32–41]. Для самого сознания это происходит во времени «здесь и сейчас». Применяя эти идеи к художественному творчеству, Мамардашвили говорил о «героическом искусстве», удерживающем «вертикально стоящего», «собранного» человека [Мамардашвили 2014, 238–239], и находил подобные практики в традициях Древней Греции, эпохи Возрождения и модернизма. Во-вторых, цель «труда произведения» – «распутывание жизненного опыта» и открытие «истины», которая «уже есть» в сознании, но ему «неизвестна». Это достигается «трансмутацией», которая «выводит нас в область “сущностей и идей”, восприятия соотношений, ставящих нечто на место внутри автономного бытия, обладающего своими симметриями» [Мамардашвили 1995, 538]. Такая цель требует «большого пространства» времени. В сфере искусства она связывалась с традицией романов «воспитания чувств» [Мамардашвили 2014, 35] и «алхимическим театром», или «театром жестокости», А. Арто [Мамардашвили 2014, 241–242]. Такое понимание «произведения» задавалось и образом «Пути», внутреннего путешествия, которое Мамардашвили прочитывал в «Божественной комедии» Данте. В частности, образ Вергилия трактовался как «символизация» того факта, что «произведение искусства» позволяет «двигаться через колодец души» [Мамардашвили 1995, 23]. «Произведение» как совокупность актов ассоциативно связывалось и с религиозными символами «спасения» или «освобождения» [Мамардашвили 2014, 35], «второго рождения» [Мамардашвили 1995, 11–12], «искупления» [Мамардашвили 1995, 525]. Там же, где «произведение» называлось «Страшным» или «Последним Судом», Мамардашвили вводил и образ «внутренней книги», «написанной» в душе человека реальностью на языке «знаков неизвестного» [Мамардашвили 1995, 149]. Для ее «прочтения» нужны особые произведения, т.к. «мы тексты читаем текстами» [Мамардашвили 2014, 615].
В понимании «произведения», таким образом, выделяются две перспективы: оно описывается как с позиции «работающего» в нем сознания, так и с (мета)теоретической позиции. С «внешней» стороны мы понимаем «произведение» как построение, производимое параллельно в планах «выразимого» (вербального, если пишется текст) и «невыразимого» («неизвестного» [Мамардашвили 1995, 525–527], «невербального собственноличного присутствия» [Мамардашвили 2014, 146], «пространства событий» и т.д.). Соответственно «материалом» служат единицы, затрагивающие обе сферы: так называемые «впечатления», «качества», «моральные клетки». «Работающее» сознание, которому доступна только «видимая» часть, сталкивается с «впечатлениями» и пытается их «расшифровать». В литературе это «качества языка» – «тон», «внутренняя атмосфера» высказывания. То есть слово берется как « вещь », а не знак : сознание не переходит к значению (обозначаемому предмету), но останавливается на форме и своем отклике на нее [Мамардашвили 1995, 157–158].
А когда «конструкция» собрана, то сознание получает результаты «темной» активности «произведения» в виде озарений («рождается» мысль): автор сам «впервые узнает» смысл, в которому его приводит форма , « стиль » как «бессознательный скелет» [Мамардашвили 1995, 406]. Через «сильную форму» действует «некоторая невидимая реальность, которая запрашивает произведение» [Мамардашвили 1995, 73] и ведет к познанию скрытых в самом сознании «истин».
Завершая наш обзор философской идеи «произведения», наметим его связи с характеристиками художественных текстов. Возможность «записать» «Путь» в текст связывалась с таким свойством литературы, как фикциональ-ность : для Мамардашвили было значимо, что вымысел позволяет «охватывать» и «собирать» на относительно малом «пространстве» текста большой объем сознательного опыта [Мамардашвили 1995, 244–247]. Также с темой «произведения» переплеталась тема «прозрачных тел» – таких «материальных» образований, которые всем своим устройством являют смысл. Применение этой идеи к искусству приводило к суждениям, сопоставимым с идеей содержательности формы : «…гениальность в искусстве состоит в том, чтобы создавать такую материю <…>, которая есть непосредственно и смысл, и содержание, где смысл не есть еще что-то рядом с материей произведения. Это особая прозрачность» [Мамардашвили 1995, 141–142]). Подобную полноту выражения Мамардашвили отмечал в стихотворениях [Мамардашвили 1995, 274], а в романе Пруста, напротив, находил множество «непрозрачных» частей: сравнивал текст с «четками», где есть «бусинки» – «впечатление и автор, разгадывающий впечатления» – и «пустая нить», занятая «описаниями, персонажами, приключениями, сюжетными ходами» [Мамардашвили 2014, 172]. То есть созданное Прустом «произведение» воплощалось лишь в отдельных фрагментах романа . Причем эта частичная заполненность текста «впечатлениями» учитывалась как естественная и необходимая [Мамардашвили 2014, 175–176].
Итак, «произведение» не есть произведение: Мамардашвили называл так определенный «путь» мышления, а не продукт писательского труда. Вместе с тем объяснение (или, лучше сказать, создание ситуации понимания) этой идеи производится во многом через идеи и концепции из сфер литературоведения, искусствоведения и эстетики. Многие философские понятия и суждения подкреплялись аналогиями с литературой и искусством, поэтому между «произведением» и литературными произведениями все-таки есть связь. Она выражается и в поэтических особенностях, которые связаны с пониманием романа как «записи Пути».
Поэтика произведений как «записи Пути»
Затрагивая область поэтики, Мамардашвили часто сравнивал модернистское искусство с реалистическим. Именно в модернистском романе он видел форму, способную вместить в себя «произведение-машину» [Мамардашвили 1995, 12]. Реалистическое искусство рассматривалось как «воспроизведение симулякров» [Мамардашвили 2014, 363], «наблюдений» сознания в «естественном» состоянии. «Реализму мира», или «реализму описаний», противопоставлялся «реализм души» [Мамардашвили 2014, 498], открывающий «сверхчувственную» реальность, видимую особыми «органами» [Мамардашвили 2014, 475].
В модернизме Мамардашвили привлекали отказ от представлений о «готовом» мире, «статичной» и цельной личности: вместо этого мир мыслился как становление, непрерывное творение (образ в лекциях – мерцающая мышь из стихотворения А.И. Введенского [Мамардашвили 1995, 81–82]), а сознание – как многомерное, представленное множеством «Я» в лице одного человека [Мамардашвили 2014, 164]). С точки зрения поэтики, это выражается в принципиальной незавершенности произведений (в качестве таких work in progress Мамардашвили рассматривал романы М. Пруста, Р. Музиля, Дж. Джойса), фрагментарности [Мамардашвили 2014, 503], отказе от сюжетной схемы «начало – середина – конец» [Мамардашвили 2014, 799], смешении разных временных слоев [Мамардашвили 2014, 21]. Большое значение Мамардашвили придавал особому субъектному устройству произведений: у одного сознания есть множество «Я», среди которых одно «пустое» и «абсолютное» (вводилось через образ «человека без лица» в романе Р. Музиля), а все остальные – состояния этого сознания в разных временах, различные его точки зрения на мир [Мамардашвили 1995, 367–368]. Многие «Я» и перспективы, из которых они видят один и тот же предмет, накладываются друг на друга, образуя «амальгаму», соединяющую их в единый смысл [Мамардашвили 1995, 59–60]. В модернистском понимании мира Мамардашвили также интересовала проблема « бесконечности описания »: когда описывается предмет, нет критериев, чтобы остановиться и перейти к извлечению смысла. Она рассматривалась на материале статей и художественных текстов М. Пруста, П. Валери [Мамардашвили 1995, 275–276], В.В. Набокова [Мамардашвили 2014, 43]. Решение находилось в форме : в «органических формах», обладающих свойством завершенности [Мамардашвили 1995, 276–277], в подчинении художника «стилю», в «прерывающих бесконечность» аналогией «метафорах» (еще один литературоведческий термин, получивший новый смысл, но сохранивший связь с обычным значением; ср.: [Мамардашвили 2014, 366]).
К модернизму восходят и представления о музыкальности литературных и философских произведений. Музыкальный принцип построения текстов подразумевал, во-первых, наличие повторяющихся мотивов : в романе Пруста как «романе желаний и мотивов» Мамардашвили выделял «устойчивые ноты», «пронизывающие большое пространство и время жизни» и связанные с желаниями главного героя [Мамардашвили 2014, 18]. Эта идея развивалась, со ссылкой на Б.Л. Пастернака, в поэтику « встреч »: «роман распутываний» содержит эпизоды, в которых сознание сталкивается со знаками своего «неизвестного», а дальше «узнавание» или происходит, или нет [Мамардашвили 2014, 28]. Во-вторых, музыкальность выражается в интуитивном следовании «гармониям» формы как внутренним «гармониям» человека (ср. стиль как «бессознательный скелет»). В этом контексте Мамардашвили развивал тему символистских « соответствий », которые рассматривал как между разными текстами, так и в рамках одного произведения. В обоих случаях «соответствия» трактовались как проявления смыслов (или чего-то близкого к этому), которые присутствуют в сознании, притом недоступны ему («уже есть, а мы не знаем»), но все-таки косвенно показывают себя [Мамардашвили 2014, 192]. Так объяснялись случайные «цитаты», совпадения слов и образов в независимых друг от друга текстах: «всплески внутренней единой фундаментальной организации сознательной жизни» выражают себя через одни и те же словесные формулировки [Мамардашвили 1995, 28]. Подобные параллели Мамардашвили проводил, сравнивая М. Пруста с О.Э. Мандельштамом [Мамардашвили 2014, 152],
В. Хлебниковым, А. Арто и Ш. Фурье [Мамардашвили 2014, 434–435] и др. По сути, между произведениями устанавливались интертекстуальные связи. С другой стороны, внутри одного произведения «соответствия» выступали как «смысловые переклички» между удаленными друг от друга частями текста [Мамардашвили 2014, 22]. В «романе-соборе» их порождает «симметрия» формы, а смысл устанавливается «между» ними, в их «резонансе». С точки зрения поэтики, эта идея «соответствий» подразумевает и сами « переклички », и значительный объем литературного произведения: для «резонанса» нужно «пространство», или «минимально большой текст» [Мамардашвили 2014, 453], поэтому подходящей литературной формой для «произведения», как мы видим, становится именно роман , а не, например, стихотворение. Аналогичный «резонанс» смысла Мамардашвили предполагал и в своих лекциях: оба курса имеют немалый объем, содержат множество повторов, «вариаций» одной темы и т.п. Нередко философ специально вводил так называемые «камертоны», то есть сюжеты, эпизоды, цитаты, которые должны были «стилистически настроить» слушателей и самого лектора на обдумывание тех или иных идей [Мамардашвили 1995, 31].
Краткие выводы