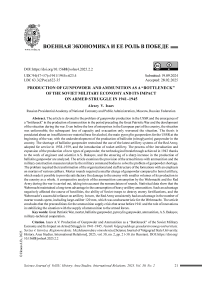Производство пороха и боеприпасов как «узкое место» советской военной экономики и его влияние на вооруженную борьбу в 1941–1945 годах
Автор: Исаев А.В.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Военная экономика и ее роль в победе
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме производства пороха в СССР и возникновению «узкого места» в производстве боеприпасов в период, предшествующий Великой Отечественной войне, и в ходе войны. Еще до потери предприятий в европейской части страны ситуация была неблагополучной, последующая утрата мощностей и эвакуация лишь усугубили положение. Постулируется тезис о недостаточной сырьевой базе по спирту основных для СССР к началу войны пироксилиновых порохов при неразвитости производства в стране баллиститных (нитроглицериновых) порохов. Нехватка баллиститных порохов сдерживала использование новейших артиллерийских систем Красной армии, принятых на вооружение в 1938–1939 гг., и внедрение реактивной артиллерии. Анализируется процесс внедрения и расширения производства порохов новых типов, технологический прорыв, достигнутый в 1942 г. благодаря деятельности инженера и ученого А.С. Бакаева и обеспечивший резкий рост производства баллиститных порохов. Исследуется обеспеченность боеприпасами вооруженных сил и меры военного строительства, принятые органами военного управления для решения проблемы нехватки порохов. Проблема потребовала трансформации организационно-штатной структуры соединений с акцентом на минометы различных калибров. Минометные выстрелы требовали меньшей навески пороха в сравнении со ствольной артиллерией, что позволяло при меньших объемах его производства в стране в целом обеспечивать удовлетворительное огневое поражение противника. Проводится сравнительный анализ расхода боеприпасов вермахтом и Красной армии в ходе войны с учетом номенклатуры выстрелов. Статистические данные показывают сохранявшееся длительное время преимущество вермахта в расходе боеприпасов тяжелой артиллерии. Такой перевес негативно сказывался на ходе боевых действий, на возможностях советских войск разрушать укрепления противника, а вермахт успешно опирался на артиллерию. В свою очередь, Красная армия стабильно имела преимущество в количестве израсходованных минометных выстрелов, в том числе нехарактерного для вермахта крупного калибра 120 мм. В статье делается вывод о возникших еще до 1941 г. предпосылках кризиса снабжения боеприпасами и роли инноваций в стабилизации положения со снабжением боеприпасами вооруженных сил.
Великая Отечественная война, миномет, баллиститный порох, пироксилиновый порох, боеприпасы, А.С. Бакаев, военно-техническое сотрудничество. Цитирование. Исаев А. В. Производство пороха
Короткий адрес: https://sciup.org/149147745
IDR: 149147745 | УДК: 94(47+57)«1941/1945»:623.4 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.2
Текст научной статьи Производство пороха и боеприпасов как «узкое место» советской военной экономики и его влияние на вооруженную борьбу в 1941–1945 годах
DOI:
Цитирование. Исаев А. В. Производство пороха и боеприпасов как «узкое место» советской военной экономики и его влияние на вооруженную борьбу в 1941–1945 годах // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 21–30. – DOI:
В подготовке к грядущему и неизбежному, как справедливо считали многие, мировому вооруженному конфликту органы государственной власти и военного управления СССР в 1920–1930-е гг. опирались на опыт Первой мировой войны 1914–1918 годов. Крупный вооруженный конфликт мирового масштаба потребовал производства огромных объемов боеприпасов. Предвоенные расчеты практикой не подтвердились, а к 1917 г. Русская императорская армия до 50 % расходуемого в боях пороха получала из-за границы [11, с. 117, 365]. Пороховое производство в связи со спецификой технологического процесса практически не поддавалось мобилизации предприятий гражданского сектора.
Уже в ходе Первой мировой войны разные государства в силу обстоятельств тяготели к пироксилиновым и нитроглицериновым порохам. Эта тенденция сохранилась и в межвоенный период. Во Франции производились преимущественно пироксилиновые пороха. Польша, связанная с Францией тесным военно-техническим сотрудничеством, также производила пироксилиновые пороха. Австрия, Чехословакия и США производили оба типа пороха. Венгрия, Италия и Великобритания производили нитроглицериновые пороха. В Венгрии было развито животноводство, экономика Италии испытывала недостаток целлюлозы. В Великобритании производилась одна из разновидностей баллиститного пороха – кордитные пороха с использованием ацетона, дорогого и дефицитного в других странах растворителя.
В отношении роста объемов важным оказывалось не только само производство пороха, но и его обеспечение сырьевой базой. Пироксилиновые пороха требовали целлюлозы, баллиститные (нитроглицериновые) пороха – глицерина. В свою очередь, производство глицерина требовало омыления жиров или сбраживания сахара с изъятием их из пищевого потребления [7, с. 170]. В Германии, тяготевшей к баллиститным порохам, негативный опыт Первой мировой войны, с острым продовольственным дефицитом, заставил ученых искать замену пищевым продуктам в технологической цепочке производства пороха. Опыты с добавлением в порох аммиачной селитры принесли крайне ограниченные результаты. В межвоенный период поиск решения данной проблемы привел к созданию дигликолевого пороха, опирающегося на сырьевую базу синтетического дигликоля [20, S. 213; 6, с. 173–174]. Дигликоль мог производиться и производился из непищевых продуктов (газы доменных печей, уголь). Именно диг-ликолевые пороха стали основными для Германии во Вторую мировую войну. Это позволило Третьему рейху производить пороха в значительных объемах, невзирая на повторение в 1939–1945 гг. британской морской блокады.
Советский Союз унаследовал от Российской империи предпочтение в отношении использования в боеприпасах артиллерии пироксилинового пороха. В какой-то мере это являлось следствием тесных связей с Францией на рубеже XIX–XX веков. В силу причин политического характера в СССР стремились добиться максимальной независимости от импорта и опираться на собственные источники сырья. В этом отношении большим достижением стало обеспечение производства пироксилинового пороха целлюлозой не из хлопка. Удалось разработать и во второй половине 1930-х гг. внедрить в производство целлюлозу «ВЦА», производимую на целлюлозно-бумажных комбинатах. Как пишет исследователь темы А.Н. Балыш, «...благодаря изобретению ВЦА и разработке процесса химического облагораживания древесной целлюлозы, в Советском Союзе накануне войны появилась новая широкая сырьевая база для пороховой промышленности, отличающаяся неограниченными ресурсами исходного материала» [2, с. 24]. Также целлюлозно-бумажные комбинаты располагались далеко от западных границ страны, что способствовало устойчивости порохового производства к внешнему вторжению.
Однако целлюлоза была важным, но не единственным компонентом, необходимым для производства пироксилинового пороха. Расход этилового спирта по технологиям 1930х гг. составлял 130,6 дал (1 306 л) на одну тонну пироксилинового пороха [16, л. 126]. Строительство заводов гидролизного спирта стало развиваться в СССР с середины 1930-х гг., но в 1940 г. они произвели 366 тыс. дал этилового спирта. Даже довоенная (на март 1940 г.) мощность заводов пироксилинового пороха в 112,5 тыс. т гидролизным спиртом не обеспечивалась. Из пищевого сырья в СССР в 1940 г. было произведено 89,2 млн дал спирта, из которых 39 % ушло на производство спиртных напитков.
В силу этих причин нарком боеприпасов И.П. Сергеев в своем докладе маршалу К.Е. Ворошилову от 21 июня 1940 г. настаивал «вести дальнейшее развитие пороховой промышленности по линии наращения мощностей главным образом за счет нитроглицериновых порохов» [16, л. 375]. Приводились в пользу этого в том числе экономические соображения: нитроглицериновый порох был заметно дешевле. Имелся также еще один фактор: именно нитроглицериновые пороха были необходимы для производства зарядов минометных мин и шашек реактивных снарядов. И.П. Сергеев подчеркивал: «Из пироксилиновых порохов указанные заряды изготовляться не могут» [16, л. 377].
Однако на момент написания доклада И.П. Сергеева производство нитроглицеринового пороха в СССР находилось на достаточно низком уровне и развивалось крайне медленно. При потребности порохов как минимум в десятки тысяч тонн, а в идеале в сто тысяч тонн и более производились лишь единицы тысяч тонн (табл. 1).
Причина этого была в том, что только в 1939 г. была отработана удовлетворительная с точки зрения эксплуатации рецептура нитроглицеринового пороха. Дело в том, что нитроглицериновые пороха вызывали «разгар» стволов орудий, нарушавший геометрию нарезной части. Для решения этой проблемы в порох вводились добавки, именовавшиеся «централит». Определенный прогресс в этой сфере был достигнут за счет сотрудничества СССР с Чехословакией в 1936–1938 гг. и введения в порох вещества дибутилфталата [3, с. 92].
Мобилизационный план от 5 июля 1938 г., предусматривающий годовую потребность в порохах в 167 975 т, обеспечивался расчетной мощностью пороховой промышленности СССР только на 28 %, в 1940 г. величина достигла только 43 % [4, с. 35]. Ввод новых мощностей позволил выйти на отметку выполнения мобилизационного плана по порохам к 1941 г. в 75 % (118 200 т при плане 156 600 т) [4, с. 37]. Тем не менее до 100 % было еще далеко. При этом 93 % объемов производства составляли пироксилиновые пороха.
Все это в совокупности привело к тому, что в докладе наркома обороны С.К. Тимошенко и начальника Генерального штаба Красной армии Г.К. Жукова в ЦК ВКП(б) и СНК СССР о положении с боеприпасами говорилось о недопустимости «неудовлетворительного состояния обеспеченности выстрелами: 37-мм, 45-мм, 76-мм полковыми, 85-мм зенитными, 122-мм и 152-мм образцов 1938 года, 152-мм пушечными, 203-мм, 210мм, 280-мм и 305-мм» [17, л. 203]. Перечисленные боеприпасы образовывали становой хребет артиллерии Красной армии, наиболее эффективные ее артсистемы новой разработки: 37-мм и 85-мм зенитки образца 1939 г., 122-мм гаубицы М-30 и 152-мм гаубицы М-10, артиллерия большой и особой мощности калибром 203–305 мм. Обеспеченность боеприпасами артиллерии Красной армии к началу войны по состоянию на 1 июня 1941 г. оставляла желать лучшего. Так, 152-мм гаубицы-пушки были обеспечены на 66 %, а артиллерия среднего калибра в целом – на 73 % [1, с. 257–259]. Требовавшие баллиститных порохов 37-мм автоматические зенитные пушки образца 1939 г. и 120-мм минометы были обеспечены боеприпасами лишь на 17 и 14 % соответственно. В том числе по этой причине немецкие бомбардировщики в начальный период войны могли почти безнаказанно наносить удары по боевым порядкам советских войск, не прикрытых автоматическими зенитными пушками. Все это являлось не только следствием объективных трудностей советской промышленности в период индустриализации, но и серьезным промахам в планировании боеприпасно-го производства в предвоенный период.
Таким образом, уже к началу Великой Отечественной войны ситуацию с порохами и боеприпасами в СССР можно характеризовать как неблагополучную. Катастрофическое начало боевых действий летом 1941 г. ее только усугубило. Были потеряны пороховые заводы в г. Шостка на Украине, единственный работающий завод баллиститных порохов в Петро-веньках в Донбассе, по мере продвижения фронта на восток были потеряны заводы № 100 (Тульская область) и № 101 (Ростовская область). Уже в докладе нового наркома боеприпасов П.Н. Горемыкина (И.П. Сергеев был арестован весной 1941 г.) начальнику Главного артиллерийского управления Красной армии (далее – ГАУ КА) Н.Д. Яковлеву «по вопросу обеспечения подачи элементов выстрела по эвакуируемым заводам» от 18 августа 1941 г. признавалось: «Завод № 40 (г. Казань) и комбинат № 392 (г. Кемерово) этой потери не компенсируют» [18, л. 324]. Строившийся в Пер-
Таблица 1. Производство нитроглицериновых порохов в СССР в 1934–1939 годах
Table 1. Production of nitroglycerin powders in the USSR in 1934–1939
|
Показатель |
1934 г. |
1935 г. |
1936 г. |
1937 г. |
1938 г. |
1939 г. |
|
Объем производства, т |
439 |
1,100 |
1,400 |
1,734 |
1,850 |
4,430 |
Примечание. Источник: [16, л. 376].
ми завод баллиститных порохов № 98 к началу войны такие пороха не производил. Помимо самих пороховых заводов были потеряны предприятия, обеспечивающие их сырьем. В их числе был Рубежанский химический завод на Донбассе, который выпускал дефицитную и крайне необходимую присадку в нитроглицериновый порох – централит и дибутилфталат.
Все это в совокупности создало крайне тяжелую обстановку с производством боеприпасов для Красной армии. Незадолго до начала войны, в апреле 1941 г., был введен норматив месячного расхода снарядов: на одно дивизионное орудие калибром 76 мм – 540 шт., 122-мм гаубицу – 440 шт., 152-мм гаубицу – 360 штук. В январе 1942 г. фронты действующей армии могли обеспечить 76-мм дивизионную пушку 286 выстрелами, расход составил 198 выстрелов. Всего в январе – марте 1942 г. при нормативе расхода 2 160 снарядов обеспеченность составила 1 066 выстрелов, а расход – 682 выстрела. Столь же тяжелой была обстановка с боеприпасами других типов. В январе 1942 г. каждая 122-мм гаубица была обеспечена 218 снарядами, из которых реально выпустила 156. В феврале 1942 г. эти цифры составили соответственно 239 и 167 шт. [9, с. 526].
Еще более напряженной была ситуация с минометными боеприпасами (потери матчасти минометов к тому моменту восполнили). При нормативе месячного расхода 665 шт. 82-мм мин обеспеченность ими в январе составляла 111 шт. на миномет, в феврале – 97, в марте – 69. Аналогичная картина была со 120-мм минами. При нормативе месячного расхода 480 шт. на одни миномет в январе 1 942 г. обеспеченность составила всего 34 мины, в феврале – 39, в марте – снова 34 мины. За четыре месяца 120-мм минометы смогли израсходовать всего 7 % норматива [9, с. 526]. План производства за три месяца 1942 г. по 120-мм минам был выполнен только на 16 %, по 120-мм минам – на 48 % [9, с. 528].
Начальник ГАУ КА Н.Д. Яковлев в докладе на имя председателя Государственного комитета обороны (далее – ГКО) СССР И.В. Сталина от 27 марта 1942 г. писал, что невыполнение поставок промышленностью «заставило перевести войска на снабжение их боеприпасами по голодной норме» [9, с. 528]. Такое положение с боеприпасами неизбежно сказывалось на эффективности боевых действий и во многом объясняет неудачи Красной армии в зимнем контрнаступлении 1941–1942 годов. Врага удалось оттеснить от столицы, но не восстановить положение к началу битвы за Москву. Прорыв блокады Ленинграда также не состоялся. Немецкая оборона в этот период строилась на системе опорных пунктов в огневой связи друг с другом, без сплошной траншеи, так называемое «жемчужное ожерелье» [8, с. 16]. При наличии достаточного количества снарядов концентрация личного состава и вооружения на небольшой площади могла быть уничтожена. Впоследствии по мере решения проблемы с боеприпасами в Красной армии такие опорные пункты поддавались разрушению советской артиллерией, и от «жемчужного ожерелья» в вермахте отказались. «Жемчужное ожерелье» даже прямо запрещалось.
В свою очередь нарком боеприпасов П.Н. Горемыкин обращался к И.В. Сталину с просьбой направить на 98-й завод бригаду специалистов из числа заключенных, работавших в спецотделе НКВД, с целью «внедрения усовершенствований технологии нитроглицериновых порохов». В итоге на предприятии было сформировано Особое техническое бюро № 98 (далее – ОТБ-98) из лучших пороховиков и технологов, находившееся в подчинении НКВД. Возглавил его М.И. Левичек. Техническое руководство было возложено на опытного инженера и химика А.С. Бакаева, арестованного еще в 1937 г. по обвинению во вредительстве. В состав ОТБ-98 вошли ученые и инженеры-химики, находившиеся в статусе заключенных: Д.И. Гальперин, А.Э. Спо-риус, Б.И. Пашков, В.А. Лясоцкий, Ф.М. Хри-тин и др. [10, с. 81]. В декабре 1941 г. рабочая группа под руководством А.С. Бакаева начала отработку непрерывной технологии формирования пороховых зарядов на пилотном аппарате, получившем наименование «Ш-2» [10, с. 89].
Именно А.С. Бакаеву удалось к весне 1942 г. доработать без преувеличения прорывную для своего времени технологическую схему непрерывного процесса производства нитроглицериновых порохов с применением шнек-пресса [3, с. 118]. Постановлением ГКО от 18 мая 1942 г. № 1764сс предполагалось строительство «двух шнековых агрегатов для производства нитроглицериновых порохов по технологии, разработанной 4-м Спецотделом НКВД СССР, при участии работников завода № 98 НКБ, мощностью в 16 тонн в сутки» [14, л. 92].
Результаты внедрения шнек-прессов хорошо видны в статистике производства нитроглицериновых порохов в СССР (табл. 2). С момента внедрения новой технологии идет практически скачкообразный рост производства нитроглицериновых порохов.
Помимо артиллерийских орудий, потребителем баллиститных порохов являлись реактивные минометы, системы залпового огня, получившие широкое распространение в Красной армии.
Потери значительных производственных мощностей химической промышленности СССР, включая пороховые производства, неизбежно требовали помощи со стороны союзников в производстве порохов, как прямо, так и косвенно. В целом из 117 021 т нитроглицериновых порохов, произведенных в СССР с июля 1941 г. по май 1945 г., 77 871 т, или 66,54 %, были выпущены благодаря получению импортного глицерина [2, с. 55]. Прямые поставки порохов по ленд-лизу составляли в общем объеме сдачи зарядов фронту в 1942 г. 5,5 %, в 1943 г. – 12,9 %, в 1944 г. – 28,9 %, в первом полугодии 1945 г. – 18,7 % [5, с. 420].
Еще одно решение лежало не на поверхности, но тоже в области инноваций. Внедренные на вооружение армий стран мира в меж- военный период минометы в силу конструктивных особенностей требовали меньшего расхода пороха на один выстрел. Максимальный, шестой заряд пороха для 120-мм мины (воспламенительный + 6 дополнительных пучков) весил 510 г [12, с. 119]. В то же время вес порохового заряда для 122-мм выстрела гаубицы образца 1910/30 гг. – 1,2 кг, 122-мм гаубицы образца 1938 г. – 2,075 кг. Точно такой же, максимальный, шестой заряд для 82-мм мины (основной + 6 дополнительных зарядов) требовал 50 г пороха (48 г для десятиперой мины) [13, с. 81], Для сравнения: пороховой заряд для 76-мм полкового выстрела образца 1927 г. – 455 г, для 76-мм дивизионного выстрела – 1,080 кг. Разница 2–4-кратная, а в случае с 82-мм минометом и десятикратная.
Если в довоенном штате апреля 1941 г. № 04/400 в стрелковой дивизии Красной армии было пятьдесят четыре 82-мм миномета и двенадцать 120-мм минометов, то уже в июле 1942 г. штат стрелковой дивизии предусматривает восемьдесят пять 82-мм минометов и восемнадцать 120-мм минометов. В штате № 04/550 середины войны был уже двадцать один 120-мм миномет. В гвардейской стрелковой дивизии штата № 04/500 было еще больше: двадцать четыре 120-мм миномета.
Ситуация не могла сразу улучшиться, но положительные тенденции имели место уже во второй половине 1942 года. Так, наличие боеприпасов на Сталинградском фронте увеличилось в сравнении с начальным периодом Сталинградской битвы (июль – август 1942 г.) более чем в два раза почти по всем
Таблица 2. Производство нитроглицериновых (баллиститных) порохов на заводах наркомата боеприпасов СССР в 1941–1945 годах
Table 2. Production of nitroglycerin (ballistite) powders at factories of the USSR People’s Commissariat of Ammunition in 1941–1945
|
Заводы |
1941 г., июль – декабрь |
1942 г. |
1943 г. |
1944 г. |
1945 г., январь – май |
Всего |
|
№ 59 |
2 773 |
– |
– |
– |
– |
2 773 |
|
№ 98 |
433 |
11 480 |
21 769 |
29 327 |
13 834 |
76 843 |
|
№ 512 |
– |
237 |
1 030 |
2 257 |
– |
– |
|
№ 562 |
– |
489 |
625 |
392 |
– |
1 506 |
|
№ 577 |
– |
822 |
6 629 |
7 976 |
3 514 |
19 004 |
|
№ 580 |
– |
– |
2 822 |
6 778 |
2 927 |
12 527 |
|
Итого |
3 206 |
13 028 |
32 938 |
46 730 |
21 119 |
117 021 |
Примечание. Источник: [5, с. 406].
номенклатурам, что объяснялось увеличением поставок боеприпасов из центральных баз и заводов промышленности [1, с. 489–490].
За 1942 г. порохов всех типов в СССР было произведено 67 698 т [5, с. 406], а в Германии более чем в два раза больше – 146 563 т [20, S. 214]. Разрыв в производстве пороха хотя и был преодолен, но сохранялся и позднее. Видный отечественный исследователь промышленности боеприпасов И.И. Вер-нидуб отмечал: «Ни один из пороховых заводов в годы войны не смог использовать свои производственные мощности на 100 %» [5, с. 42]. Связано это было с нестабильными поставками сырья и простоями заводов ввиду отсутствия топлива и электроэнергии. Суммарно в 1942 г. вермахт израсходовал почти 18 млн 105-мм гаубичных выстрелов против 10 млн 76-мм дивизионных выстрелов Красной армии [20, S. 228]. Разница в расходе выстрелов к орудиям большой мощности (203-мм гаубица Б-4 в Красной армии, 210-мм гаубица образца 1918 г. в вермахте) более чем трехкратная в пользу противника [20, S. 229]. Боеприпасы артиллерии особой мощности (280-мм мортиры и 305-мм гаубицы) в ведомостях ГАУ КА расхода боеприпасов фронтами в 1942–1943 гг. отсутствуют. Этим во многом объясняются неудачи Красной армии в боях под Ржевом, когда не хватало боеприпасов на подавление системы обороны противника и разрушение ее опорных пунктов.
Положение стало меняться в лучшую сторону в 1943 г., несмотря на то, что разрыв по объемам выпуска порохов сохранялся. В СССР в 1943 г. было произведено 112,8 тыс. т пороха [5, с. 406], в Германии 230,6 тыс. т [20, S. 214]. За весь 1943 г. Красной армией было израсходовано 216,47 тыс. выстрелов к 203-мм гаубице образца 1931 года. В свою очередь вермахт израсходовал за 1943 г. практически вдвое большее количество – 404,6 тыс. выстрелов к 210-мм гаубице [20, S. 248]. За 1943 г. Красная армия израсходовала 934,7 тыс. 152-мм гаубичных выстрелов и 2 364 тыс. выстрелов к 152-мм гаубице-пушке образца 1937 г. (МЛ-20). Вермахтом было израсходовано практически вдвое больше – 6 470 выстрелов к 150-мм гаубице sFH18.
Совершенно другую картину мы наблюдаем в отношении минометного вооружения.
По итогам 1943 г., Красная армия израсходовала 37 808,1 тыс. 82-мм мин, 10 886,9 тыс. 120-мм мин [19, л. 62 и др.; 20, S. 248]. Вермахтом было израсходовано 11 781 тыс. выстрелов 81-мм минометов и 207,5 тыс. 120-мм минометов. На стороне Красной армии налицо более чем тройное превосходство. При этом по расходу боеприпасов тяжелой артиллерии вермахт все еще превосходил Красную армию примерно в два раза, по среднекалиберной артиллерии был достигнут паритет.
Сокращения разрыва в производстве пороха не произошло даже в третьем периоде войны. В СССР в 1944 г. произвели 126,9 тыс. т пороха [5, c. 406]. В Германии в 1944 г., невзирая на бомбардировки промышленных предприятий авиацией союзников, было произведено 253,7 тыс. т порохов [20, S. 214]. Общая нормализация положения с боеприпасами позволила советской промышленности вернуться к обеспечению артиллерии большой и особой мощности. В планах производства 1944 г. появляются 203-мм осколочно-фугасные снаряды [15, л. 4]. До 1944 г., в 1942–1943 гг., боеприпасы к артиллерии особой мощности не производились, в отчетных материалах наркомата боеприпасов они отсутствуют.
В итоге только в 1944 г. в ведомостях расхода боеприпасов ГАУ КА появляется артиллерия особой мощности. Так, выстрелов 152-мм пушек БР-2 было израсходовано за 1944 г. 9,9 тыс. шт., 210-мм пушечных БР-17 – 0,05 тыс. шт., 280-мм мортирных – 3,322 тыс. шт., 305-мм гаубичных – 0,656 тыс. штук. Выстрелов 203-мм гаубиц образца 1931 г. (большой мощности, по советской классификации) было израсходовано 167,77 тыс. штук.
Однако германская артиллерия того же класса расходовала большее количество боеприпасов: 15-cm K18 и K39 было израсходовано за 1944 г. 114,5 тыс. шт., 21-cm K39/40 – 15,8 тыс. шт., 24-cm K3 и H.39 – 8,4 тыс. штук. Выстрелов к 210-мм гаубицам вермахт израсходовал кратно больше, чем Красная армия 203-мм выстрелов, – 508 тыс. шт. [20, S. 280].
Качественный скачок переживают только минометы. В 1944 г. Красной армией было расстреляно 82-мм мин 42 550,7 тыс. шт., 120-мм мин – 15 454,2 тыс. штук. Германия, несмотря на наращивание военного производства, не смогла догнать советские войска.
За 1944 г. вермахт расстрелял 24 183 тыс. выстрелов к 81-мм минометам и только 2 984 тыс. выстрелов к 120-мм минометам [20, S. 280].
При этом нельзя сказать, что ставка Красной армии на минометы была тактическим компромиссом. Напротив, минометы имели свои неоспоримые преимущества. Так, немецкое 75-мм пехотное орудие было впятеро тяжелее миномета калибром 81 мм (82 мм). При этом тактически минометы лучше укрывались в складках местности, им достаточно было высоты около 20 см над укрытием, в то время как нормальное прицеливание из пехотного орудия требовало 40 см и демаскировало расчет. Послевоенный период окончательно поставил точку в споре о том, что лучше – миномет или пехотное орудие. Вскоре после окончания Второй мировой войны пехотные орудия исчезнут как класс, а 120-мм минометы используются в боевых действиях вплоть до наших дней.
В связи с вышесказанным небезынтересно рассчитать долю минометных выстрелов в расходе боеприпасов Красной армии (табл. 3).
Мы видим явление, которое можно назвать «минометизацией» Красной армии, – увеличение доли минометов в огневом поражении противника. Во многом это решение было вынужденным, обусловленным необходимостью приспосабливаться под возможности промышленности. Однако в целом оно соответствовало реалиям вооруженного конфликта.
Пороховая промышленность в ходе Великой Отечественной войны в наибольшей степени зависела от поставок по ленд-лизу. Так, даже в 1943 г. 100 % глицерина поступало из-за границы [4, с. 58]. Столь же важными были поставки добавок в пороха – центра-лита и дибутилфталата. По данным бывшего заместителя начальника ГАУ КА И.И. Вол- котрубенко, потребность фронта в порохах была покрыта за счет текущего производства на 64 %, за счет импорта – на 24 % и из запасов ГАУ – на 12 % [4, с. 57].
Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Положение с производством пороха в СССР и, как следствие, производством артиллерийских боеприпасов было неблагополучным еще до начала войны 1941–1945 годов. Имели место серьезные просчеты планирования и НИОКР в области порохов. По существу, страна готовилась к предыдущей войне, опираясь на пироксилиновые пороха. Производство нитроглицериновых порохов к 1941 г. только разворачивалось. Потери предприятий в европейской части страны лишь усугубили положение, что привело к нехватке боеприпасов для действующей армии. Именно пороховое производство потребовало наибольших в процентном измерении вливаний продукции ленд-лиза. Проблема была в целом преодолена в двух плоскостях. Во-первых, внедрением инновационных технологий удалось резко нарастить производство баллистит-ных порохов. Во-вторых, реорганизацией вооруженных сил был сделан акцент на использование минометов, требовавших меньше пороха на один выстрел. В какой-то мере это тоже была инновация, минометы были замечены и своевременно приняты на вооружение в предвоенный период.